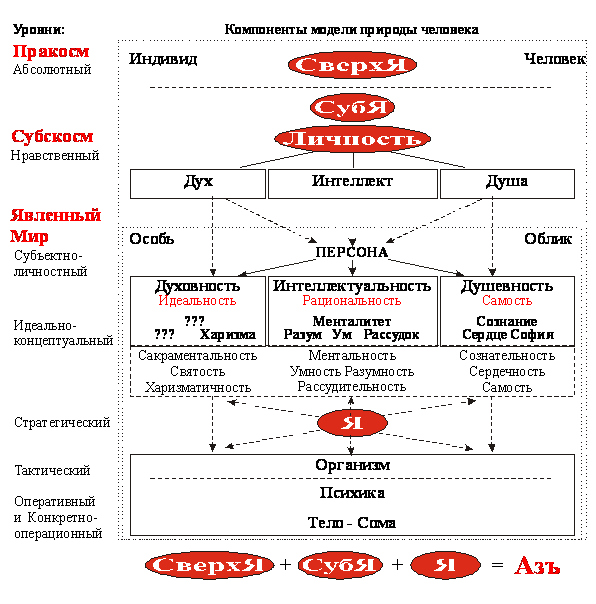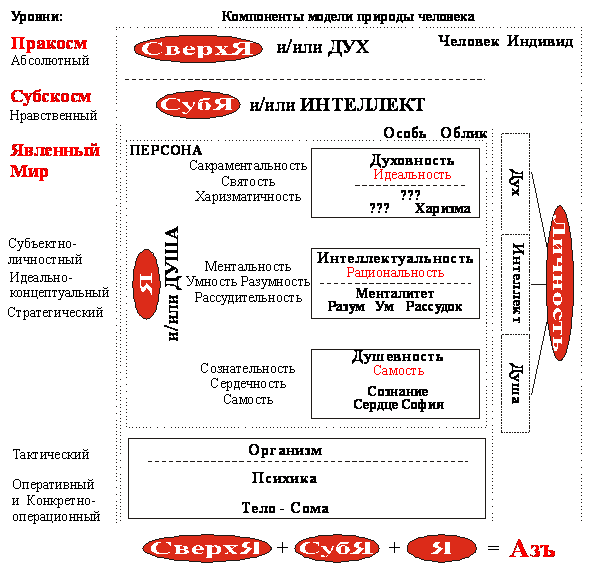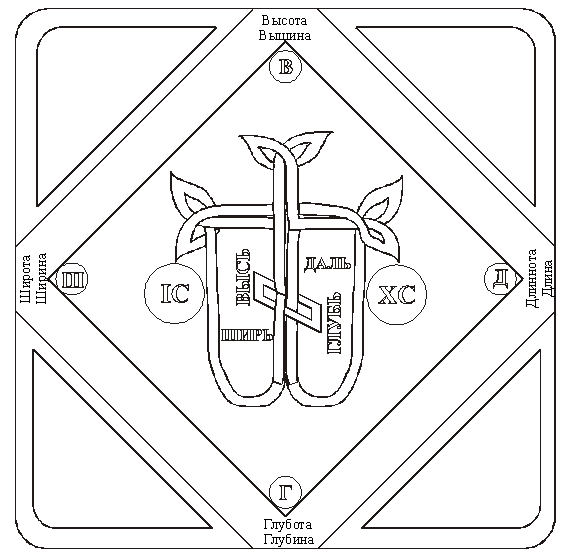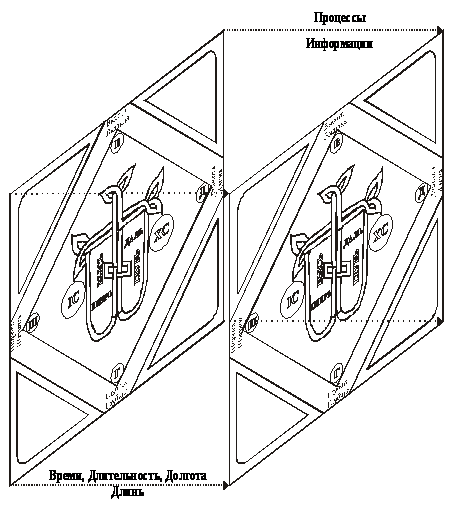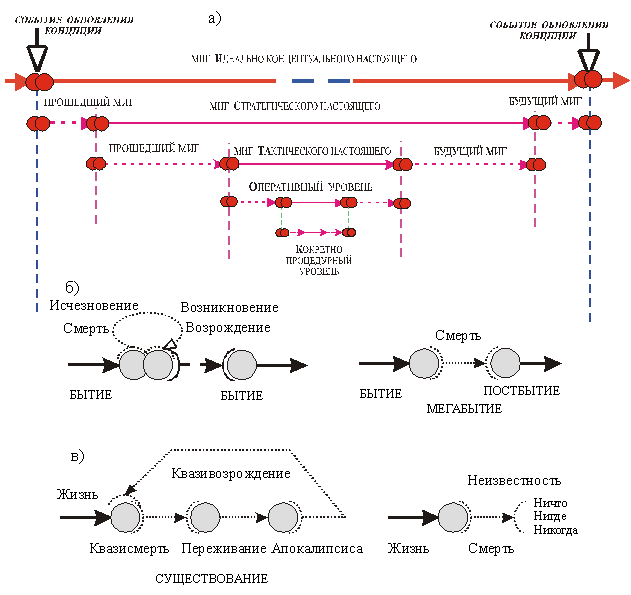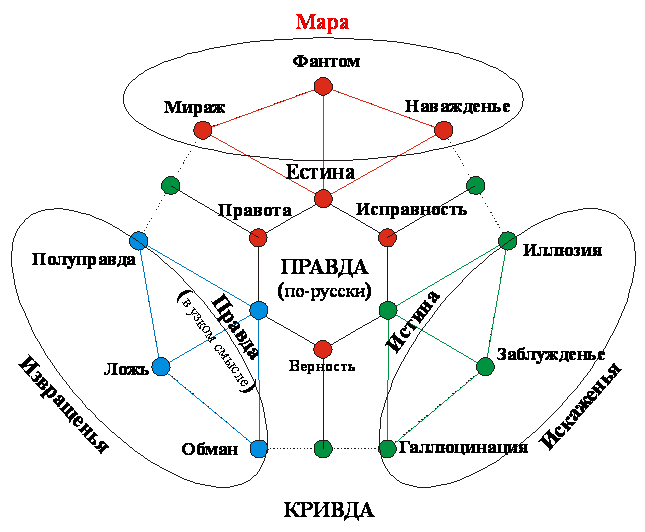ИВАНАМ,
РОДСТВА НЕПОМНЯЩИМ, ВСПОМНИТЕ !
РУСЬ СВЯТАЯ
творение
Бытия
Размышления
об ответственности за выбор
Том 1 (часть 2).
Глава 7
В.Н.
Терских
Выбор модели бытия
Оглавление
Главы 7
Выбор
модели бытия.....................................................................................
383
7.1 О выборе модели бытия
России.................................................................................................................
385
7.1.1
С
чего начать?.................................................................................................................................................
385
7.1.2
Выбор
русской модели природы человека...............................................................................................
389
7.1.3
Заблуждения
о выборе россиян..................................................................................................................
394
7.2 О ситуации выбора
россиян и русичей..............................................................................................
400
7.2.1
Концепции
учения о бытии...........................................................................................................................
400
7.2.2
Состояния
славянской религии до и после христианизации..............................................................
406
7.2.3
О
нравственном выборе.................................................................................................................................
412
7.3 Самоидентификация
россиян и России............................................................................................
419
7.3.1
Азъ
есмь! Это Азъ, Господи! Я есть! Это Я, люди!...............................................................................
419
7.3.2
О
Вере и верности, доверии и уверенности.............................................................................................
424
7.3.3
О
самости, особости и инаковости русичей и россиян.......................................................................
429
Резюме
7 главы................................................................................................................................................................
437
Примечания: рисунки
и таблицы см. в конце главы
7.1
О
выборе модели бытия
России
Пожалуй, начнем AB OUO - с самого начала? А почему
нет? Вот только уже сейчас совершенно
ясно, что не USQUE AD MALA (и не до яблок), то есть не до
конца, потому что тема о выборе
России и Руси, а именно такому выбору будет посвящена 2 часть первого
тома
нашей книги, неисчерпаема. И начнем, как и раньше, с определения
первичных
понятий и терминов.
За границей всех россиян
называют русскими, даже представителей
отделившихся при распаде СССР республик тоже по инерции называют так,
независимо
от их национальности.
В России так говорить
невозможно, поэтому ввели термин
"русскоязычные". На терминах "русские" и "Русь"
строят свои не всегда приличные спекуляции различные экстремистски
настроенные
"псевдопатриотические" сообщества и деятели. Поэтому для наших
совместных
размышлений в рамках этой книги мы предлагаем термины - Россия и
россияне,
русичи и Русь, которые даем в нашей интерпретации. Поставим рядом
четыре слова:
Россия и Русь, россияне и русичи даже без явного определения эти
слова и стоящие за ними понятия
что-то говорят нашему уму и сердцу. И надеемся, что не только нашему.
Тем не
менее, следует определиться более вразумительно и очевидно. Для начала
размышлений предлагаем несколько определений. Россия - это многонациональный
этнос и народ, страна и государство, а также консубъект, порожденный
россиянами. Россияне - представители
многонационального российского этноса и народа, жители страны Россия,
граждане
государства Россия, а также индивидуальные субъекты принимающие участие
в
непрерывном возрождении, сотворении и становлении консубъекта Россия,
признающие это участие и осознающие свою ответственность за свое
участие.
Русич - это состояние духа, души и
интеллекта
человека, способного, готового и желающего читать, говорить, слышать и
мыслить
по-русски, признающего свою причастность к непрерывному возрождению,
сотворению
и становлению Руси и по мере сил и возможностей принимающий в этом
участие.
Русь - имеющий свое неповторимое
место
(пространство, структура связей и время) и миссию в универсуме
нелокальный
консубъект, который может быть определен в следующих аспектах - как
мистическое
сердце и главный соборный колокол - центр сборки России в качестве
консубъекта;
и как активный внетерриториальный вселенский деятель.
В отношении понятий и терминов
Русь и русич у нас проблем не
возникает, поскольку мы их сами определили для использования в пределах
своих
размышлений в рамках этой книги .
Однако относительно России и россиян терминологическая ситуация не так
однозначна, как хотелось бы. Контекстные ощущения подсказывают нам, что
этнос,
народ, страна и государство не тождественные понятия, но в то же время
в научно
философских определениях четкой согласованной дифференциации этих
понятий нет.
С одной стороны каждое научная дисциплина или философское течение, и
даже
каждый автор, дают свои собственные определения. С другой стороны на
протяжении
одного и того же научного текста эти понятия зачастую используются
попеременно
как синонимы без каких-либо пояснений. Предлагаем нижеследующие
определения для
того, чтобы размышление было более предметно.
Этнос - исторически сложившаяся в
определенных природно-исторических
условиях и обстоятельствах устойчивая общность людей, обладающих общими
чертами
и стабильными особенностями культуры и психологического склада, а также
самосознанием, то есть осознанием своего единства и отличия от других
подобных
образований, а также воспринимаемый как таковой другими этносами.
Национальность -
общность людей,
зародившаяся в определенных исторических условиях
и обстоятельствах, обладающая общими генетическими свойствами,
принявшая свою
миссию, осознающая и признающая себя и признаваемая другими
национальностями в
качестве определенной национальности.
Нация -
тип
территориального этноса, исторически сложившаяся в
определенных природно-исторических и социальных условиях и
обстоятельствах общность
людей определенной национальности, обладающая общим языком, общей
духовностью,
душевностью и интеллектуальностью, психологией и самосознанием, общей
территорией, принявшая свою миссию, осознающая и признающая себя и
признаваемая
другими нациями в качестве определенной нации.
Народ -
этнос,
создавший для себя зависящие от него и подвластные ему
базовые системы правления и хозяйствования, необходимые для обеспечения
его
бытия и реализации своей миссии, имеющий территорию в границах,
признанных
другими народами, соответствующие воздушное и водное пространства,
недра,
растительный и животный мир, осознающий себя в качестве народа и
признанный
другими народами в качестве народа.
Страна - это система, включающая территорию в
границах, признанных другими
странами, соответствующие воздушное и водное пространства, недра,
растительный
и животный мир, а также проживающую на этой территории исторически
сложившуюся
и организационно оформленную как народ общность людей, создавших сферы
отношений и системы обеспечения бытия страны и реализации своей миссии.
Естественно, что каждое из
приведенных определений может быть и
даже наверняка будет кем-то оспорено, но мы ведь и не претендуем на
предъявление нормативного определения. Если бы это было возможно
сделать, то
нам не пришлось бы рассматривать эту проблему и приводить определения.
Мы
предъявили эти определения, для того чтобы легче было адресовать свои
высказывания
на эту тему. Единственное свойство, на котором мы, безусловно,
настаиваем - самопризнание
и признание образованья другими. Существует этнометодология,
этнография,
этнология и другие этнонауки, есть теории и учения, но нет четкого
определения
понятия этнос. Обычно авторы этнотеорий дают удобное им в конкретной
штудии
определение, с помощью которого легче обосновывать свои утверждения. Мы
попытались дифференцировать этнос и нацию, приписав этносу общность
природно-исторических условий, особенностей культуры и психологического
склада.
А нацию посчитали разновидностью этноса и добавили к ее характеристикам
обладание общей духовностью, душевностью и интеллектуальностью, миссией
и
территорией. В отличие от этноса нация зачастую используется в качестве
основания для оформления государственности, но в то же время есть
безгосударственная шотландская нация. Могут различаться этнические
нации на
основании общности происхождения и гражданские нации на основании
владения
общей территории. Мы же наличие общих подвластных систем правления (в
частности
государственности) и хозяйствования сделали отличительным свойством
народа.
Поскольку в Российской конституции властным субъектом является
многонациональный
народ России.
Ко всему прочему в различных
текстах и в повседневном языке
довольно активно используется термин "раса" его смысл за последние
400 лет изменялся столько раз, что, похоже, в настоящее время совсем
утерян. В
антропологии раса определяется как группа людей,
в которой характерный внешний облик
обусловлен общими наследственными конституционными признаками (цветом
кожи,
формой головы, лица и носа, формой и цветом волос, размерами тела и так
далее).
В социологии раса определяется и классифицируется по социальным
отношениям. В
тоже время большинство ученых предпочитает использовать понятия этнос и
этническая
группа. Все наши попытки определить и, более четко и дифференцировано
согласовать со специалистами, этот набор понятий не увенчались успехом.
Поэтому
мы предлагаем отойти на какое-то время от этой терминологической
проблемы,
хотя, и понимаем, что ее рано или поздно придется решать. Вместо этих
понятий
для обозначения России предлагаем использовать в этой главе введенное
нами
понятие "консубъект", не вдаваясь в нюансы различения этноса, нации,
народа и страны. Понятие государства предлагаем использовать для
обозначения
сферы правления России в контекстном смысле "государство России", а
не "Государство Россия". Более подробно российское государство мы
будем рассматривать в параграфе о сферах отношений. Понятие консубъект
оказывается более удобно, поскольку для рассмотрения темы о выборе
России
вполне достаточно эллиптичного ощущения о том, что в консубъекте Россия
отображаются одновременно свойства этноса, нации, народа и страны и в
данный
момент их можно не доопределять более дифференцировано и системно
обосновано. К
тому же, мы пока устраняемся от еще одного тупикового спора по поводу
того,
является ли человек частью этноса, нации, народа и страны, которые
якобы его
формируют. Для этого потребуется профессиональное доопределение и
главное
согласование одновременно в философии и в теории систем таких
категорий, как система
и компоненты, единство, единое и ипостаси, целое и части и так далее.
Мы же в
соответствующем разделе только зафиксировали свое определение этих
понятий в
качестве приглашения к размышлениям. В соответствии с нашими
предложениями
индивиды порождают народ, общество, государство как консубъектов и не
являются
их частью. В плане субъектных отношений индивиды
выступают в качестве первичных
носителей суверенитета, а также в качестве первопричины,
первоисточников и
первовладельцев власти и собственности для субъектов всех остальных
сфер
отношений на всех уровнях. Некоторые исследователи склонны принимать
признание
первичности индивидов по отношению к обществу как решение проблемы, в
которой
определяется, кому должен принадлежать примат интересов - обществу или
человеку.
Полагаем, что из первичности индивидов не следует примат их интересов.
Более
того, полагаем, что наши утверждения ни в какой степени не являются
решением
этой проблемы, но, пожалуй, могут быть использованы в качестве
предпосылок для
ее выявления и формулирования. Предлагаем первые вопросы, которые по
нашему
мнению следовало бы задать себе, чтобы начать процесс выявления
проблемы. А
существует ли вообще эта проблема? Или в данном случае мы опять имеем
дело со
своекорыстными играми прелестнословов, которые предлагают очередную
борьбу
между "общизмом" и "индивидуализмом"? Нужно ли
противопоставлять интересы и устанавливать примат чьих-либо интересов,
в том
числе интересов общества и индивида?
Предлагаем по ходу конструирования модели природы человека и его
бытия
попытаться рассмотреть возможность выявления этой проблемы, хотя
предполагаем,
что конфронтационное противопоставление интересов человека и общества
является
не проблемой, а прелестью.
Впрочем, все наши
предположения, предложения и даже утверждения
являются не попытками навязать кому-либо свое мнение, а предпосылками
для заострения
внимания на обсуждении какого-либо вопроса и способом организации этого
обсуждения. Мы полагаем, что определенность не может быть установлена
кем-то
единолично. Таким способом можно установить только фанатичный
догматизм. Более
того, полагаем, что даже хорошо продуманная исследователем система
согласованных между собою определений повышает в основном
определенность только
для этого исследователя, да и то не навсегда. В идеале она может
служить не для
установления раз и навсегда заданной определенности, а предпосылкой и
первичным
средством для повышения определенности между партнерами по
взаимодействию.
Полагаем, что возможно только совместное повышение определенности путем
обсуждения в процессе выявления и формулирования актуальных для
партнеров
вопросов и проблем. Не следует путать определенность и фанатичное
следование
наперед определенным схемам и догмам. Более того, поскольку наши тексты
описывают уже прошедшие размышления и обсуждения и при этом выполняют
функцию
приглашения к последующим размышлениям и обсуждениям, постольку,
предъявляя их,
мы стремимся не столько повысить определенность в каком-либо вопросе,
сколько
несколько расшатать уже существующую привычную определенность. В данном
случае
мы опираемся на системный принцип, согласно которому система не может
быть
выведена из устойчивого консервативного состояния, если ее не
раскачать. А уж
дальше характер взаимодействий определит в какую сторону будет
изменяться
система - в сторону развития или в сторону деградации. Мы, например,
предполагаем, что к определяющим свойствам живого в диапазоне от
молекул до
организмов можно отнести его способность по своему усмотрению и по
собственной
воле развиваться или не развиваться, изменять проницаемость своих
внутренних и
внешних границ от полной непроницаемости до полной открытости, изменять
структурную ориентацию атомов, превращая неживое в живое, малыми
воздействиями
и с малыми затратами снимать потенциальные барьеры и направлять большие
количества энергии в нужном ему (живому) направлении, а также повышать
или
уменьшать как определенность, так и неопределенность, как
упорядоченность, так
и неупорядоченность, как сложность, так и простоту, как
организованность, так и
неорганизованность. Однако мы не намерены конструировать из этих
предположений
теоремы, а затем доказывать их. Хотя при подходящем для того случае и с
интересными собеседниками мы с удовольствием примем участие в
размышлениях об
отличительных свойствах живого и косного. Полагаем, что принятый нами
уровень
соотношения определенности и неопределенности, доказательности и
бездоказательности на этапе приглашения к совместному выявлению и
формулированию
проблем не только допустим и приемлем, но даже и желателен, необходим,
почти
что неизбежен. Поэтому иногда мы используем прием установления
временного
зыбкого равновесия между повышением определенности и сохранением
некоторой
неопределенности как интригующей таинственности и загадочности, которая
может
повысить стремление потенциальных партнеров найти свой ответ.
Кстати, предлагаем уделить
немного внимания загадкам и разгадкам.
В играх, сказках, былинах и даже в сакральных космогонических текстах
часто используются
диалоги с загадками и разгадками. Их предназначение и функции весьма
разнообразны. Они могут быть предназначены с одной стороны для
воспроизводства
и укрепления традиций, а с другой стороны для развития и закрепления
нового.
Обычно загадки задает обладающий сакральным могуществом мудрец, а
отвечает
главный герой, и от их диалога зависит не судьба и жизнь каждого, но
также
судьба других персонажей, макрокосма, а в итоге и всего мегакосма.
Диалог может
быть искушением во всех смыслах этого понятия. В процессе диалога может
проверяться эрудиция отвечающего или степень овладения им канонических
знаний.
Может проверяться воображение отвечающего или его способность и
готовность
развивать знания. Это может быть процедура инициации или экзаменования
отвечающего. Диалог может служить для установления факта совпадения
мировоззрения
и языка его участников, нечто вроде обмена паролями - "ты и я одной
крови". Вопрошающий и отвечающий могут меняться местами и тогда диалог
может стать либо процессом обучения героя, либо процессом испытания
старого
знания новым.
Во всех случаях диалог является
испытанием, подтверждением или
опровержением приверженности участников мировому порядку и мировому
закону, их
способности и готовности укреплять, развивать или ниспровергать
существующий
порядок и закон, их намерений следовать добру или злу. Одновременно по
ходу
диалога происходит не только самоопределение, самоидентификация,
становление и
обновление средств эндокосма и микрокосма его непосредственных
участников и
тех, кто связан с ними, но также и воспроизводство, восстановление и
развитие либо
деградация, извращение и даже уничтожение мироздания, мирового порядка
и
гармонии. В процессе диалога воссоздаются, расширяются и развиваются
словари
имен, архетипы процессов и сущностей и законы не только индивидуально и
совместно обретенные участниками, но и всего мегакосма. В наших
размышлениях
загадки и разгадки названы вопросами и ответами, которые имеют
отношение к
выявлению, формулированию и решению актуальных проблем. Во всем же
остальном
загадки и разгадки идентичны проблемным вопросам и ответам.
Возможно, что еще одно различие
между живым и косным заключается в
том, что косное воспроизводит не весь словарь мегакосма и к тому же оно
это делает
наподобие механического устройства, в котором записан и сам словарь и
программа
его воспроизведения. В то время как живое воспроизводит если и не весь,
то, по
крайней мере, большую часть словаря косного мира, и дополнительно
воспроизводит
часть словаря того слоя, к которому оно принадлежит. Человек при этом
воспроизводит словарь всех слоев - косного, растительного, животного и
социального. К тому же живое не просто механически воспроизводит, а
перевоссоздает
словарь мегакосма в процессе его обретения и использования. При этом
могут
воссоздаваться потерянные или испорченные компоненты словаря и
происходить его
развитие. Наибольшими возможностями по воссозданию, развитию,
совершенствованию
и росту словаря обладает человек. Но в то же время именно человек может
в
наибольшей степени способствовать искажению, деградации, регрессу и
отмиранию
элементов словаря, а, следовательно, и самого мироздания. Это
происходит,
потому что может сам по собственной воле умозрительно конструировать
имена,
образы, знаки, символы, архетипы, процедуры и процессы бытия. В том
числе и
поэтому необходимо тщательно и ответственно относиться к
индивидуальному и
совместному выбору, поступкам и деяниям.
Эти и другие ракурсы могут
оказаться конструктивными и
продуктивными, если, конечно, не вносить в них дух мессианизма,
панславянизма,
панруссизма или еще какого-либо национализма и вообще изма. Отказ от
использования в моделях бытия измов не противоречит рассмотрению
влияния
особости русского языка и письменности, исследованию влияния на бытие
России и
консубъектных треугольников Россия, Восток, Запад, и Россия, Азия,
Европа
праславянской письменности черт и резов и старославянского языка
дохристианского периода бытия Руси и Славии. Как бы ни казалась кому-то
странной, абсурдной и нежелательной идея существования и активного
использования развитой слоговой славянской письменности задолго до
введения
братьями Кириллом (Константином) и Мефодием буквенной письменности в
момент
христианизации славянских народов, это еще не повод для того, чтобы
походя
отбросить эту идею. Исследования В.А.Городцова, В.Георгиева (Болгария),
П.Я.Черных, В.А.Истрина, Д.С.Лихачева, Н.А.Константинова,
Н.В.Энговатова, Г.С.
Гриневича и других ученых, а также свидетельства арабских и европейских
ученых
и даже самого Мефодия о существовании у славян до контактов с Византией
собственной оригинальной письменности не может быть отброшен только на
основании утверждения об "абсурдности постановки самого вопроса".
В контексте построения моделей
бытия и исследования взаимного
влияния различных консубъектов может оказаться весьма полезным
продолжение исследования
"Книги Велеса", которая содержит вариант истории народов от ХХ
тысячелетия до нашей эры и летопись славян с начала первого тысячелетия
до
нашей эры и вплоть до IХ века нашей эры с помощью
письменности предположительно
являющейся переходной формой от слоговой к буквенной. Тем более что в
ней
описываются весьма интересные сведения о расселении и миграции славян,
об их
стычках с аланами, готами и гуннами. В случае подлинности текстов
"Книги
Велеса", это описание предоставляет дополнительную информацию для
выявления формулирования и решения проблем в исследовании происхождения
разных
народов и языков и их взаимного влияния на собственное и совместное
бытие. Но
даже в том случае, если будет доказано, что эти тексты являются
фальсификацией,
то они все равно будут представлять интерес как частная интерпретация
тех
осколков сведений о славянской дохристианской религии, которые доступны
для
исследователей.
Конструктивными и продуктивными
для построения моделей бытия могут
оказаться описания нравов и склада личности консубъектов, уровень и тип
их
культуры и религии. Одно дело, когда взаимодействуют варварские
языческие
консубъекты, и совсем другое, когда взаимодействую консубъекты с
высокой культурой
и развитой религией. О чем можно судить по отрывку из монографии
Г.С.Гриневича
"Праславянская письменность. Результаты дешифровки", (Москва,
Общественная польза, 1993 год).
"К примеру, что вычитал
Миролюбов в тексте дощечки №4
(нумерация условна): "Боги русов не берут жертв людских и ни животными,
единственно плоды, овощи, цветы, зерна, молоко, сырное питье
(сыворотку) на
травах настоянное, и мед и никогда живую птицу и не рыбу, а вот варяги
и аланы
богам дают жертву иную - страшную, человеческую, этого мы не должны
делать, ибо
мы Даждь - боговы внуки и не можем идти чужими стопами …".
Оригинальна
ранее неизвестная система мифологии, раскрывшаяся Миролюбову во
"Влесовой
книге". Вселенная, по мнению древних славян, разделялась на три части: Явь -
это мир видимый, реальный; Навь -
мир потусторонний, нереальный, посмертный, и Правь -
мир законов, управляющих всем миром".
В тексте монографии
Г.С.Гриневича вместо Навь стоит Новь. Не
исключено, что в процессе фонетизации слоговой письменности в
наименовании потустороннего,
нереального, посмертного мира вкралась неточность. Согласно словарю
Даля новь - это целина, непашь, залог, а навь
- это покойник, усопший, умерший,
что более близко по смыслу для потустороннего мира. Несмотря на то, что
мы
конструировали свою модель независимо и до знакомства с этим текстом,
представляется символичной аналогичность иерархии Явь,
Навь и Правь с предложенной нами иерархией Явленный
мир, Субкосм и Пракосм. Может быть, даже есть смысл в
использовании
славянских терминов в дополнение к введенных нами.
Именно с Правью этимологически
связаны праведность, правда,
правило, правильность и так далее. Мы приложили некоторые усилия к
тому, чтобы
развести между собой понятия истина и правда, и по-прежнему считаем, что в
формализованном использовании они не идентичны, а уж тем более не
тождественны.
По-прежнему считаем, что связки "истина - ложь" или "правда -
истина - ложь", а также кантовская "истина - ложь - неправда"
являются заблуждением, по крайней мере, для русского языка. Однако в то
же
время мы должны отметить, что для русичей правда означает нечто намного
большее, чем отсутствие лжи, обмана или притворства, и в некоторых
контекстах
включает в себя смыслы, принадлежащие истине. Хотя при этом нам не
очень
импонирует идея о том, что русское понятие "правда" настолько уж
близко по своему значению к понятию "истина", что "в русской
философии оно служит также выражением дополнительного смысла,
связанного с
указанием, с одной стороны, на подлинную вселенскую истину, а с другой
- с
указанием на предельную личностную убежденность говорящего". (Азаренко.
Современный философский словарь. Издательство "Панпринт". 1998).
Кстати, об истине. У нас есть большое сомнение по поводу того, что
русское
слово истина "образовано от местоимения Is-to и, следовательно,
этимологически соотносится с латинским iste - этот, тот". Полагаем, что
наше восприятие
истины как производной от естины более близко к трактовке Даля и
Флоренского -
истины как сути того, что есть. Заодно не очень понятно, почему
"русское
слово "правда" этимологически связано с корнем "prav", а не с русским корнем
"прав". Похоже, что, в самом деле, к контекстной русской группе
правда, права, править, управлять, управа, справа, право, правило и так
далее
можно также добавить такие значения как обет, обещание, присяга,
заповедь,
договор, закон, но не понятно, почему для этого необходимо исходить из
этимологической связанности с корнем "prav". Не исключено, что наоборот
корень
"прав" пришел в индоевропейские языки именно из праславянского языка.
Кроме того, нам не
представляется правомерной противопоставление
русского восприятия правды и истины как соответственно божественного и
земного.
Восприятие правды и истины в славянских языках и мировоззрении, в
общем, и в
русских языке мировоззрении, в частности, сложилось за много веков до
христианизации русских и западных славян и до контактов с Византией.
Дискурсы
же русских православных философов, включая Ф.Достоевского и
Вл.Соловьева по
поводу смысловой иерархии правды как принимаемого с небес божественного
начала,
а истины как восходящего от земли человеческого начала исходят не
столько от
религиозно философского размышления, сколько от их восприятия
поэтических
текстов Псалтыри. Действительно истина (в первоисточнике - она же и
правда)
восходит от земли и поднимается до облаков, то есть до небес, а
праведность,
справедливость приникает с небес, но затем они встречаются. Отсюда
вовсе не
следует, что истина является земной, а потому относительной и ее можно
менять
по своему усмотрению. По нашему мнению, как правда, так и истина по
мере
восхождения человека по пути к абсолютному образу и подобию становятся
едины в
своем горнем и земном аспектах. Мы полагаем, что если праведность,
справедливость,
правда и истина стали доступны конкретному человеку, то они становятся
достоянием каждой составляющей его триединого Я и его триединой
личности.
Причем, горние и земные аспекты каждой из них не разъединимы, взаимно
дополняют, взаимно обуславливают, взаимно определяют и взаимно
усиливают друг
друга.
В этом же контексте лежит
различие в двух противоположных
трактовках соотношения божественного и человеческого в человеке.
Согласно одной
трактовке человеческое является извращением божественного в результате
грехопадения первородного. Человеческое надо изживать раскаянием,
покаянием,
праведной жизнью и воцерковлением, а после того, как оно будет изжито,
только
Всевышний восстановит божественное в человеке как части единого
Богочеловечества.
Согласно другой трактовки человеческое является божественным даром
человеку, а
божественное в человеке это наполненное высшим идеалом, реализованное в
соответствии с абсолютным образом и подобием в процессе непрерывного
восхождения человека совместно с человечеством. Божественное извратить
невозможно, его можно только временно утратить, либо перестать
почему-либо его
видеть. Свое человеческое может извратить сам человек - именно это
извращение и
надо изживать на пути восхождения к высшему образу и подобию.
В шестой главе мы рассматривали
терминологический вариант
использования Я для обозначения триединого, включающего в себя сверхЯ,
субЯ, и
эго. В процессе размышлений о выборе русичей мы решились на
предъявление
варианта, в котором реализовали свое ощущение в качестве русичей о том,
что Азъ -
первая буква и
слово в алфавите обозначает первое лицо человека и Я -
последняя буква
и слово в алфавите также обозначает первое лицо
человека. То, что Азъ открывало алфавит и обозначало высокое понятие, а
Я
замыкало алфавит и обозначало обыденное понятие относительно нашего
аутентичного Я, явилось решающим аргументом в пользу принятия этого
варианта.
На Руси говорили: Я - последнее слово в азбуке. Зато Азъ - первое.
Похоже, что
и Азъ, и Я не только в философии, но и в живом обыденном русском языке
воспринимаются в качестве существительных, а не местоимений. Мы решили,
что Азъ
вполне подходит для обозначения триединого детерминатора человека,
включающего
сверхЯ, локализованное в пракосме, субЯ, локализованное субкосме, и Я,
локализованное в явленном мире. К тому же буква А использовалась в
старославянском
счислении в качестве основы для образования начертаний цифр - единица,
тысяча,
тьма или десять тысяч, легион или сто тысяч, леодор или миллион.
В результате по аналогии с
вариантами, представленными в шестой
главе (рисунки 6-13, 6-14) мы
получили два новых варианта схемы для модели природы человека
(соответственно рисунки 7-1, 7-2 в томе 2), в которых триединый Азъ включает
в себя локализованное в пракосме сверхЯ,
локализованное в субкосме субЯ, и локализованное в
праэндокосме
человека Я. Здесь также, как и в
предыдущей паре вариантов, различие между вариантами состоит в том, что
первый
вариант схемы (рисунок 7-1)
предусматривает локализованное в субкосме триединство
личности, то есть триединство
духа, души и интеллекта. Второй
вариант схемы (рисунок 7-1)
предусматривает личность не как триединство,
а как триединое, включающее дух, душу и интеллект. При
этом Я проявляется как детерминатор души,
как центр отсчета всей системы средств личности, воплощенных в явленном
мире, а
также как центр средств организма. СубъЯ
выполняет функции детерминатора для интеллекта, а сверхЯ
- функции детерминатора духа. В остальном варианты схемы
сходны между собой и если каждый из них будет использован для
конструирования
соответствующей модели природы человека и бытия, то эти модели могут
быть
содержательно сопоставлены без больших концептуальных и
терминологических трудностей.
Поскольку мы полагаем, что модель, основанная на втором варианте схемы (рисунок 7-2), более конструктивным и
эффективном для описания, объяснения и прогнозирования в процессе
выявления и
формулирования актуальных проблем, постольку в дальнейшем мы будем
ориентироваться
только на нее. Полагаем также, что этот вариант модели позволит также
получить
более конструктивные и эффективные результаты в процессе решения
проблем.
Надеемся, что более конструктивными и эффективными станут процессы
практического управления проблемными ситуациями, а также процессы
практического
сотворения и обретение своего индивидуального и совместного бытия и
средств его
обеспечения.
Плюсы и минусы предыдущих
вариантов мы рассматривали в шестой
главе. Полагаем, что предложенное в рабочем варианте схемы изменение
иерархии Я
является плюсом, поскольку его новое место в иерархической структуре
детерминаторов более соответствует обыденному восприятию русичей.
Некоторое
снижение пиетета Я подчеркнуло его вторичность по отношению к Азъ и, не
лишая
высокого уровня аутентичности, приблизило его к бытию в явленном мире.
Одновременно сохранилось положительное свойство - снижение уровня
абстрактности
Я и повышение образности его восприятия. Расположенные в трех уровнях
сверхЯ,
субЯ и Я уравновесили друг друга в составе триединого Азъ и создали
устойчивую
триединую структуру, которая одновременно способна к развитию.
Некоторые
предложенные в этой главе новые варианты основаны на нюансах русского
языка и
возможны только в русском языке. В частности, на том основании, что
адаптированное в русском языке слово "эго" не является полным
тождеством слова "Я" и при этом несет на себе негативный оттенок, мы
предлагаем использовать эго для
обозначения переродившегося извращенного прелестью и страстями Я.
Далее мы воспользовались тем,
что слово "персона" в меньшей степени, чем другие
слова,
обозначает образ и в большей степени субъекта, и предлагаем
использовать его
для обозначения совокупности проявлений в явленном мире триединой
личности. А
для обозначения совокупности персоны и организма в качестве
интегрального
субъекта в явленном мире использовать термин "особь". Термин "лик"
мы уже использовали для обозначения аспекта проявленья. Поэтому,
если мы применим его к персоне, то полагаем, что это не вызовет
смысловых
недоразумений. Соответственно мы предлагаем определить лик как
- (1) проявляющийся вовне интегральный
образ внутреннего склада
Я и проявлений личности; (2)
совокупность внешних субъектных проявлений Я и личности в различных
сферах
отношений; представленная другим, проекция Я и личности вовне,
осуществляющая
взаимодействия во внешнем для индивида мире. Термин "облик" обозначает образ особы и
сответсвенно определяется как - (1) интегральный образ внутреннего
склада
особы, проявляющийся вовне через
интеракции персоны (проявлений духа, души и интеллекта) и организма
(психики и
тела).
В рамках этой модели можно
утверждать, что
отношения между людьми устанавливаются на следующих уровнях - в
пракосме между
их сверхЯ, в субкосме соответственно между их субЯ, а также в явленном
мире
между их Я, локализованными в эндопракосме внутреннего мира каждого. В
явленном
мире взаимодействие между Я субъектов реализуется через взаимодействие
между проявленьями
их личностей (персонами) и организмами. Может быть, и в самом деле
браки
устанавливаются на небесах? Триединое Азъ, а также его составляющие
неразъединяемые сверхЯ, субЯ и Я воспринимаются как субъектные сущности
- активные
перводеятели, а также как источники и центры организации активности и
инициативности человека.
СверхЯ, субЯ и Я можно
представить как тернер, в котором сверхЯ
является вершиной в верхнем углу тернера, из которой исходят две
стрелки к субЯ
и Я. Решение о том, в какой из нижних углов поставить субЯ и Я, может
определить соответствующее направление философии. Дело в том, что
вершины
ранжированы направлениями стрелок, две из которых исходят из верхнего
угла, в
правом нижнем углу одна стрелка входящая и одна стрелка исходящая, а в
нижнем левом
углу сходятся две стрелки - одна от вершины тернера, а другая от
правого
нижнего угла. Предположим, что мы поставили в правый нижний угол субЯ,
а левый
- Я. В этом случае тернер может быть прочитан следующим образом: сверхЯ
порождает субЯ и Я, при этом субЯ влияет на формирование сути Я.
Вообще-то
ранжировать субЯ и Я весьма сложно. С одной стороны в рассматриваемой
нами
модели субЯ, будучи локализовано в субкосме и детерминируя интеллект,
проявляется
и воплощается в явленном мире человека через его средства. Я
детерминирует душу
и локализована в эндопракосме внутреннего мира человека как
совокупность
центров координат, то есть выглядит как совокупность точек. При этом
структура
и возможные составляющие точки воспринимаются как неразличимые. СубЯ
задает архетипы
плоскостей и осей координат интеллекта, но где они будут пересекаться,
определяет Я через начала координат разного уровня. Предлагаем для
визуализации
триединой структуры Азъ, включающей неразъединяемые сверхЯ, субЯ и Я
использовать вместо тернера треугольник и принципиально, или хотя бы на
текущем
этапе размышлений, не ранжировать субЯ и Я. Надеемся, что если и
придется
ранжировать, то это произойдет не в пределах этой книги.
Кстати, по поводу книги, а
также описываемых в ней сущностей и
вариантов модели у нас самих создается довольно странное ощущение. Не
то чтобы
книга и модель ведут себя, как хотят - все-таки это всего лишь тексты
описаний,
а не субъекты. Но зато есть впечатление присутствия в процессе
размышлений и их
изложения, кроме явных участников творческой группы, также различных
невидимых
консубъектов и может быть будущих читателей в качестве потенциальных
участников. При этом влияние невидимых участников, может быть, весьма
велико -
в этом мы почти уверились после введения в размышления россиян и
России,
русичей и Руси. То, что было очевидно, в ряде случаев перестало быть
очевидным
и даже стало восприниматься как неистинное. И наоборот - всплыло то,
что раньше
было в небытии или в ничтожестве, что раньше находилось на периферии
сознания. И
стало восприниматься как более очевидное и истинное то, что раньше было
совершенно неочевидно. Конечно же, ни о какой диктовке кем бы то ни
было
участникам размышлений каких-то текстов не может быть и речи.
Неизвестные
диктанты из неизвестных источников воспринимаются нами как нечто
странное, и
вероятнее всего, опасное. Никто из участников творческой группы не
согласился
бы стать диктантописцем. Однако мы признаем, что все вместе и каждый в
отдельности, несомненно, оказываем свое влияние на индивидуальные и
совместные
прозрения и озарения. А иначе, зачем бы мы взаимодействовали? Да и эту
книгу мы
пишем в надежде на то, что читатели примут участие в не
манипуляционном, а в
конструктивном взаимовлиянии и в сотворении.
Мы не исключаем возможных
нелокальных интеракций с другими
консубъектами, которым сопутствовали естественные взаимные влияния.
Полагаем,
что естественная суть интеракций и взаимовлияний определяются самой
природой
человека и консубъекта. Предполагаем, что Азъ человека смотрит на
метареальность
и метабытие как бы тремя лицами (не двумя как двуликий Янус) - одно
обращено к
Всевышнему, другое к внешнему миру и третье обращено на себя. И для
того, чтобы
познать себя необходимо увидеть отражения всех трех лиц, которые нам
возвращают
наши контрагенты на всех трех уровнях. Отражение одного лица, а именно
обращенного на себя лица, мы уже получили в процессе сотворения книги.
Отражение другого лица от участников творческой группы мы получили в
процессе
обсуждения. Надеемся, что и отражение своего лица, которое вернул нам
Всевышний
через вдохновение сотворения мы рассмотрели адекватно, с точностью до
своей
способности видеть на текущем уровне восхождения к Его образу и
подобию. Все
это сделало возможным наше собственное переопределение и
пересотворение, что мы
и реализовали в меру своих текущих сил и способностей.
Полагаем, что сохранившиеся
осколки славянских космогонических
мифов, в которых отображался исходный космогонический миф, могли бы
оказать помощь
в осмыслении и осознании возникающих в процессе предощущений,
предчувствий и
предобразов модели природы человека и бытия. Однако даже те фрагменты,
которые
остались разбросаны по различным хранилищам, не систематизированы и не
каталогизированы. Могли бы помочь различные исследования
археологических
находок и памятников относящихся к славянскому вероучению. Однако они
также
фрагментарны, бессистемны и большей частью не доступны для
использования.
Существенную помощь может оказать исследование уникального сплава
византийского
православного вероучения и древнего славянского вероучения, который
возник при
христианизации Руси. Однако не видно того, кто бы был заинтересован в
таком
комплексном исследовании и при этом был способен его провести и
предоставить
для всеобщего использования. В качестве примера предлагаем рассмотреть
только
одно изображение православного шестиконечного креста, в котором
практически
обозначена сложная система космогонических координат, которой мы
сделали свою
прорисовку.
В 1412 году мастером Лукианом
на оглавии иконы-складня изображен
шестиконечный православный крест, вписанный в ромб. В углах ромба в
кружках
вокруг креста помещены буквы В, Д, Ш, Г, а в кружках параллельно косой
перекладины обозначено имя Иисуса Христа. (Рис.
7-3 в томе 2)
Т.В.Николаева (Икона-складень
мастера Лукиана. / Советская
археология, 1968, №1, С.93) показала, что буквы соответственно означают
Высоту,
Длину, Широту и Глубину, символизируя в совокупности объемное
четырехмерное
пространство. Слова в прорисовку внесены нами, вместо предложенных
Николаевой
четверки слов, мы поставили две четверки созвучных слов "Высота,
Длиннота,
Широта, Глубота" и "Вышина, Длина, Ширина, Глубина", а также
добавили еще русские слова Высь и Глубь, которые по нашему мнению
соответствуют
верхнему и нижнему концам косой перекладины. Кроме того, мы добавили
слова Ширь
и Даль и можно было бы добавить слово Длинь, которое в словаре Даля
отнесено к
обозначению растянутого во времени.
Можно предположить, что в
данном случае косая перекладина в
сочетании с именем Иисуса Христа обозначает две нелокальные для
явленного мира
координаты - Горнюю Высь и Горнюю Глубь, которые соединяют,
согласовывают и
координируют явленный мир, субкосм и пракосм. Ромб может обозначать еще
одну
нелокальную грань, общую для всего наблюдаемого явленного мира -
пределы
наблюдения. Тогда беспредельный охват духом, душой и интеллектом
образов за
пределами наблюдаемого явленного мира может быть обозначен как Горняя
Ширь.
Ненаправленная координата Горняя Даль может служить для обозначения
чего-то
настолько удаленного, что оно выглядит неясным и туманным для прямого
наблюдения, но может быть представлено в воображении и становится ясным
только
для "внутреннего беспредельного взгляда" духа, души и интеллекта.
Горняя Длинь обозначает нелокальный отрезок чистого времени процесса,
протекающего
в Горнем Времени Горнего Простора. Из четырех координат явленного мира
три
координаты обозначают обычное трехмерное пространство (вышина, ширина,
длина),
а четвертая координата "глубина" проходит через мистическое сердце в
эндопракосме. Именно к этой координате относятся русские обороты речи -
глубина
сердца, в глубине сердца, вопль и вздох из глубины сердца; мудрость
глубины и
глубина мудрости; сокровенное, глубинное, природно присущее. Всевышний
видит в
сердце человека, человек ощущает в сердце присутствие Его благодати. Но
также,
когда природное Я человека извращается в эго, а сердце закрывается и
черствеет,
эта координата может обозначать сатанинскую глубину, глубину лукавства,
глубину
омута, где черти водятся. Интересно было бы совместно с лингвистами и
филологами рассмотреть возможную систему интерпретаций смыслов по
группам слов,
которые мы представили в ассоциативной таблице
7-1 в томе 2. В частности представляет интерес то, что для
обозначения
характеристик времени используются те же слова, что и для длины или
глубины.
Почему для времени не выработана своя собственная система слов? Не
связано ли
это как-то с теми же ощущениями, которыми руководствовались те, кто
ввел термин
долгота для обозначения совместно широтой координат места на земле? В
данном
случае долгота имеет отношение одновременно и к пространству, и к
времени.
"Долгота места на земле показывает расстояние в градусах по
равноденственнику, считая от условного первого полуденника, к востоку.
Она же
определяет разность времени мест, и потому может выражаться в градусах
и
часах". (Даль).
Космогонические представления
славян были не примитивны, а весьма
развиты и сложны, если судить по словарю и выражениям живого русского
языка, а
также по символам закодированным в религиозной и светской живописи и
архитектуре, в летописях, штудиях и во всех жанрах литературы и
театрального искусства,
включая былины, сказания, скоморошьи и бытовые представления, ритуалы и
обычаи.
Существует мнение, что вероучения различных народов являются
упрощенными,
приспособленными под их менталитет и язык вариациями древнего исходного
мифа,
который был как бы первоисточником, который наиболее адекватно описывал
возникновение, устройство и истинную природу мегакосма, явленного мира
и всего
сущего в нем. По мере передачи между народами и поколениями многие его
положения как бы терялись, упрощались и даже извращались. В итоге
получилось
некоторое множество разнообразных вероучений в чем-то противоречащих
друг
другу, а в чем-то дополняющих друг друга. Задолго до христианизации
Руси в
славянских и праславянских вероучениях отображался исходный
космогонический
миф. Причем, славянские вариации этого мифа были не примитивнее
вариаций
индоевропейских народов, а в ряде случаев, возможно, они были более
развитыми и
сложными и с меньшими упрощениями и искажениями передавали
первоначально общие
для всех народов космогонические положения.
И, тем не менее, цивилизованные
исследователи, не говоря уж о
христианских теософах, богословах и проповедниках, квалифицируют
дохристианские
славянские вероучения как совокупности диких примитивных языческих
мифов,
идущих от первобытного образа жизни и мышления славянских племен. Кстати, эти довольно
подлые
квалификационные ярлыки не отражают суть состояния тех субъектов и их
средств
обеспечения бытия, к которым они приклеиваются, а характеризуют
состояние
цивилизованной части человечества, ориентированной на агрессивную
экспансию.
Дикими называют тех, кто еще не приобщен к технологиям агрессивной
цивилизации.
Примитивными - тех, кто подвергает сомнению или, хуже того, отвергает
агрессивную цивилизационную культуру, идеологию и доктрину. Язычниками
- тех,
кто не исповедует господствующее в агрессивной цивилизации вероучение.
При этом
представителей агрессивной цивилизации совершенно не устраивает то, что
у
"диких примитивных язычников" есть своя собственная естественная для
них и для условий их бытия культура, технология и вероучение. Они
только мешает
агрессивной экспансии. Следовательно, им нужно дать уничижительную
характеристику и искоренить.
Дохристианские славянские
вероучения охарактеризованы
христианскими исследователями как языческие на том основании, что они
были
основаны на многобожии и идолопоклонстве. Однако есть предположение,
что это не
соответствует сути дохристианских славянских вероучений. В них был
единый Бог,
который олицетворял все абсолютное и был Демиургом, первопричиной и
первоисточником
всего сущего и его бытия в мегакосме. На уровне же явленного мира
вероучения
рассматривали не богов, а олицетворения различных природных и
социальных синергий.
На этом уровне в вероучениях было первичное демиургическое излучение,
было
Первосущество и были различного уровня консубъекты, которые
персонифицировали
синергию стихий и различных сообществ живого и выполняли функции
нелокальных
наблюдателей и гарантов закономерности соответствующих процессов бытия.
Для
олицетворения консубъектов им присваивали имена собственные. В
профанационном
варианте их могли называть богами, но ведь и в христианстве Иисуса
Христа
называют Богом. Они воспринимались верующими как партнеры, а не идолы.
К ним
обращались с просьбами и приносили дары, но ведь также ведут себя верующие христиане по отношению к большому
сонму святых, архангелов и других небожителей. Также ведут себя люди в
обыденной
жизни, когда обращаются за помощью к тем, кто может помочь
удовлетворению их
нужд. Чтобы быть лучше услышанными славяне приходили со своими
просьбами и
обращениями к святилищам и другим освященным местам, которые были
каким-то
образом, связаны с нелокальными наблюдателями и гарантами. Но ведь и
христиане
со своими мольбами и молитвами приходят в церкви, к иконам и другим
освященным
местам. Следовательно, эти признаки не могут быть однозначно
определяющими для
квалификации славянских вероучений как языческих в отличие от
христианских вероучений
как монотестических. Соответственно терминологическое
противопоставление
"языческая славянская религия" и "монотеистическая православная
религия" корректно не настолько, насколько это представляется
христианским
исследователям.
Что же тогда называется
язычеством? И какое название следует
присвоить не языческим вероучениям? Рискнем сделать необычное
предположение.
Вероятно, языческим с некоторой долей условности можно было бы назвать
вероучение, которое передавалось между народами и поколениями изустно,
то есть
воспроизводилось "на кончике языка". В отличие от вероучений, которые
фиксировались письменно и воспроизводились "на кончике пера". В этом
смысле их можно было бы назвать "изустные" и "письменные".
Но если сохранять термин "языческие", то не очень понятно, каким
общим термином обозначить авраамические вероучения. Представители
авраамических
религий не удосужились договориться об этом общем термине, так как,
несмотря на
их теологическое родство и одинаковую по отношению к языческим религиям
типологию,
у них не было нужды в договоренности. Во-первых, представители
каждой из них в своей гордыне считали
свое вероучение стоящим выше всех остальных и единственно истинным, а
потому
противопоставление шло между одной конкретной религией и множеством
разнообразных
языческих. Хуже того, каждая религия раскололась на различные церкви,
секты,
течения и уже их представители стали считать истинно верным свое и
только свое
толкование космогонического мифа, а себя и только себя называть
правоверными
или единственно истинно правильно верующими. Всех остальных можно было
называть
неверными, вероотступниками, заблудшими или язычниками - это уже не
имело
существенного значения. А православная церковь к тому же считает, что
только
она правильно славит Бога и/или Христа. Во-вторых, согласование
обобщающего
типологического термина предполагает описание определяющих свойств и
отличительных особенностей вероучений по сути. Но это было не выгодно и
практически невозможно, так как разрушало состояние заумной
неопределенности и делало
уязвимой идеологию агрессивной экспансии. В-третьих, они просто не
могли
договариваться, потому что постоянно враждовали и воевали друг с другом.
Славянские дохристианские
вероучения, пожалуй, можно назвать
языческими в том смысле, что на профанационном уровне доминирующим был
изустный
способ их распространения. При этом есть предположения, что для
фиксации,
размножения и передачи их основополагающих эзотерических концептуальных
положений использовалась собственная высокоразвитая письменность. Возможно, что такое сочетание
письменного и устного способа были приняты для обеспечения возможности
индивидуального и совместного пересотворения и обретения вероучения в
процессе
непосредственного взаимодействия верующих. Однако, если способ
различения не
служит утрированно уничижительным целям агрессивной экспансии, то
изустный или
письменный способы также, как и монотеичность, не могут служить
единственным
определяющим признаком для квалификации конкретных вероучений. Тем
более что в
каждом из них в большей или меньшей степени содержатся как монотеичные,
так и
политеичные элементы, используются как изустные, так и письменные
способы,
которые по своей сути являются взаимно дополнительными. При том, что
изустный и
письменный способы являются как бы диаметрально крайними, у них есть не
только
свои плюсы и минусы, но также и общие качества по отношению к функциям
развития, прогресса и роста вероучения как средства обеспечения бытия.
Пропорциональное соотношение этих способов должно быть разным на
различных
этапах возникновения и становления, в различных обстоятельствах и в
различных
проблемных ситуациях. Разным должно быть и их соотношение в сферах
сакрального
суббытия, творческого, претворительного и пользовательского бытия в
процессе
созидания и обретения вероучения, которые мы описывали в четвертой
главе. (Таблица 4-2А в томе 2).
Можно предположить, что
изустные способы в большей степени
способствуют развитию, а письменные способы в большей степени
способствуют консервации
вероучения. Тогда первые лучше работают в нестабильных с большими
темпами
изменения состояниях среды обитания и социальной системы носителей
вероучения,
а вторые в стабильных. При давлении со стороны агрессивного вероучения
и тот и
другой способы могут оказаться лучше или хуже в зависимости от
соотношения
потенциалов имеющихся у сторон систем средств обеспечения и темпов их
увеличения. Там, где жестко консервативное вероучение сломается, гибкое
и более
способное к развитию только прогнется и в дальнейшем либо ассимилирует
агрессивно вторгшееся вероучение, либо внесет в него свои
концептуальные
положения, официально приняв при этом внешнюю форму агрессивного
вероучения,
либо на пересечении вероучений будет сотворено и обретено, по сути,
новое
интегральное вероучение. При этом могут быть приняты совершенно разные
терминологические наклейки.
Аналогичным образом можно
оценить вероучение в ракурсе
конструктивности и эффективности применительно к развитию или
сохранению
соотношения монотеичных и политеичных элементов, а также соотношения
творческой, претворительной и пользовательской сфер бытия. Возможно,
что сфера
сакрального суббытия одинаково полезна и для сохранения, и для
развития.
Получается, что каждое из рассмотренных здесь качеств вероучения
оказывается
лучше или хуже на различных этапах возникновения и становления и в
различных
обстоятельствах. Следовательно, ни одно из них не может быть
использовано в
качестве единственного критерия категорической оценки пригодности или
непригодности вероучения. Создается впечатление, что единственное
качественное
свойство, которое может быть использовано для таких целей, является
агрессивность или не агрессивность. Однако даже его можно применять,
только
если оно является неотъемлемым атрибутивным исходно определяющим
свойством
вероучения. Это истинно только для вероучений исповедующих зло. Для
остальных
же вероучений наличие или отсутствие агрессивности является в большей
степени
характеристикой его носителей, чем самой сути вероучения. На различных
стадиях
своего бытийного цикла вероучение может осуществлять свою экспансию
агрессивно
или неагрессивно. Но и в ракурсе зла свойство агрессивности применять
весьма
трудно, поскольку зло камуфлируется и рядится в одежды добра. Так что
оно может
применяться в основном для того, чтобы заострить внимание на вероучении
и его
носителях. Вероятнее всего критерием оценки неприемлемости вероучения
является
квалификация его самого и его носителей по приверженности к злу, но и
для этого
должны быть выработаны четкие квалификационные признаки и критерии.
Ни славянское, ни христианское,
ни мусульманское вероучения нельзя
квалифицировать как приверженные злу - и то, и другое, третье по более
короткой
или длинной цепочке происходят от первичного космогонического мифа.
Следовательно, критерии выбора между ними были политическими. А
поскольку славянское
вероучение было на Руси издревле, а мусульманское уже получило
некоторое
распространение, при этом по некоторым свидетельствам каждое из них
было более
мощным, чем предлагаемое Византией православие, постольку внедрить его
можно
было только с помощью агрессивного насилия. Для этого необходимо
уничтожить
критическое количество активных носителей устраняемых вероучений,
независимо от
того готовы или не готовы они были на партнерское или хотя бы
неагрессивное
взаимодействие с носителями христианства. Что и было осуществлено. Не
исключено, что это было одной из основных целей введения христианства.
Мусульманское вероучение, которое не было доминирующим на Руси, могло
сохранить
себя и оказывать влияние за счет распространенности в других странах.
Те же
носители славянского вероучения, которые остались в живых, могли
сохранить его
космогонические положения только за счет их внедрения в православие в
закодированном
виде и формальной адаптации терминологического аппарата православия к
своим
обычаям и ритуалам. В результате получилась российская адаптация
православного
варианта исходного космогонического мифа. Некоторые даже наедятся, что,
может
быть, под этой личиной в глубине скрывается славянский вариант,
адаптированный
к изменившемуся миру и его актуальным проблемам. Полагаем, что все
народы на
которые было распространено христианское вероучение создали свои
варианты
вероучений на базе своих вариантов древнего мифа за счет внедрения его
образов
в христианство в закодированном виде и формальной адаптации
терминологического
аппарата христианства для обозначения образов своего варианта древнего
исходного космогонического мифа. Так же поступили и славяне. Они
создали свой
вариант православия включив в него дохристианское славянское
вероучение, которое
мы в дальнейшем предлагаем для краткости обозначать термином
"славянская
религия". Соответственно термином "древняя религия" предлагаем
обозначить общее вероучение, которое предположительно существовало до
разделения народов и включало в себя первичный исходный космогонический
миф.
Каково состоянье этих вероучений в действительности никто не знает.
Комплексного
системного исследования никто не проводил, а внешние наблюдатели
предпочитают
видеть то, что они хотят видеть. Так в частности появляются заблуждения
и
извращенные образы о выборе россиян.
Я обязан передавать то, что
говорят,
но верить этому не обязан.
В большом множестве
противоречивых взглядов на противоречия
российского менталитета довольно сложно отличить закодированные мифы,
заблуждения
иллюзии и искажения от реальной действительности. Менталитет можно
определить как систему глубинных
механизмов, способов и методов познания, оценки, ориентации, включая
целеполагание, предназначенных для обеспечения выбора при принятии и
реализации
решений. Менталитет строится субъектами на основании ощущений и
представлений о
своей предназначенности, самореализации и свободе выбора. Менталитет
явно и
неявно фиксируется в идеологической модели носителя менталитета, в
политике
перехода от текущего состояния к идеалу, в тактических предпочтениях,
включая
привычки, в духовной, душевной и интеллектуальной сферах. Менталитет
является
двигателем и обоснованием поведения и поступков.
Перечислим некоторые из
противоречий во взглядах различных
наблюдателей и аналитиков на россиян и Россию и в их оценках
российского
менталитета. С одной стороны тяга к соборности, общинности, братству,
солидарности (врожденное, прирожденное ощущение "Мы"), то есть
разнообразные формы единения с другими в различных сферах общественных
бытийно-важных отношений. И одновременно тяга к самости,
индивидуальности,
независимости. С одной стороны готовность верить в светлое будущее,
ради
которого можно и затянуть пояса; готовность пролить благодать на все
человечество и даже вселенную, но в тоже время - сейчас, здесь, сразу и
немедленно. По нашему мнению эти порывы не противоречат друг другу.
Более того,
они, скорее всего друг друга дополняют. А составляющие следующего
псевдо
противоречия даже взаимно определяют друг друга. Считается для россиян
характерны,
одной стороны законопослушность, тяга к следованию правильному порядку,
стремление жить по правде. Но с другой стороны они тяготятся нормами,
заданными
государственными структурами. Может быть, мы здесь имеем дело не со
склонностью
обходить законы как таковые, а с исторически сохранившимся отношением к
законопорядкам, насаждаемым византийско- большевистскими эмиссарами?
Может
быть, это просто привычка считать признаком достоинства, ума и даже
доблести объегоривание
представителей чуждой по духу официальной власти? А может быть они
просто
тяготятся противоестественными нормами?
Считают, что еще одно
противоречие российского характера
составляют два следующие свойства. С одной стороны россиянам присуще
чувство
долга, служения, предназначенности, мессианства, личной ответственности
за
судьбы человечества. Но с другой стороны безответственное иждивенчество
-
государство мне обязано, более того, каждый богатый или здоровый и
благополучный
мне обязан, а я никому не обязан. Полагаем, что это вообще не
противоречие.
Проявления этих свойств в широком диапазоне градаций можно наблюдать у
представителей каждого народа. При этом в одних исторических ситуациях
могут в
большей степени проявляться одни, а в других ситуациях - другие
градации.
Первое свойство является исконным глубинным природным свойством любого
нормального человека и проявляется оно тогда, когда человек чувствует
себя
полноправным субъектом, а не вещью, которой манипулируют. Когда
истинные
свойства его личности могут проявиться во всей полноте. Второе же
свойство
является поверхностным и наносным. Оно появляется в обстоятельствах,
обусловленных
законами цивилизации, в которой процессы бытия человека низведены до
уровня
обезличенного существования. Безответственность появляется тогда, когда
у
человека нет возможности проявить в полной мере свои природные
личностные
качества. Эти свойства не могут составить противоречие, поскольку
взаимно исключают
друг друга в тех ситуациях, в которых они проявляются. То же самое
можно
сказать и о следующем псевдо противоречии, которое противопоставляет
друг другу
готовность отдать последнюю рубаху и поделиться последним куском хлеба
с
готовностью отобрать и поделить между всеми поровну. Тем более также
личностно
ситуативны критерии поступков и поведения людей в диапазоне от "Если не
Я,
то Кто?" до "Моя хата с краю".
Пожалуй, следует особо отметить
два расхожих, но по нашему мнению
не вполне адекватных утверждения, которые с дореволюционного времени
настойчиво
пытаются внедрить в сознание людей - наличии в характере россиян
природной
любви к самодержцу и природной религиозности, в смысле любви к церкви.
Считается, что любовь к самодержцу является глубинным свойством
россиянина. Мы
предполагаем, что это, скорее всего это внешнее привнесенная на волне
византийско-большевистского экспансионизма неаккуратная интерпретация
склонности россиян к признанию и уважению российского авторитета князя,
предводителя, мастера цеха, старейшины, учителя - как первого среди
равных.
Пресловутый взгляд на веру русского мужика в хорошего доброго царя или
барина,
который приедет и рассудит, на самом деле было бы конструктивнее
интерпретировать с точки зрения восприятия естественной богоданной
харизмы.
Глубинное инстинктивное представление россиянина о харизмах и мудрого
державца
батюшки, и доброго радетельного помещика, и хозяйственного мужика, и
промысловика,
и старателя, и так далее. Попробуйте в утверждении о любви к самодержцу
аккуратно заменить самодержца на державца, наделенного данными от Бога
харизмой
и миссией служения. Для чего и почему звали в князья варяга? Может
быть, это
восприятие князя как наемного лица и уважение его профессионализма?
Кстати, о прелестнословной
интерпретации варягов как скандинавов,
иноплеменников и иноверцев. Во-первых, есть свидетельства того, что
варяги-русы, от которых и пошло название "Русь", были не
скандинавским, а западнославянским племенем или племенами. Во-вторых,
они
генетически родственны другим славянским племенам, том числе и
восточнославянским. Родственными были также язык, религия и социально
политический строй. В-третьих, варяги-русы были основными носителями
исходного
варианта дохристианской славянской религии и социально политического
архетипа,
которые были прототипами для построения вариантов религий и социально
политического строя других славянских племен, и продолжали оказывать
существенное влияние на них. В-четвертых, население Новгорода большей
частью
составляли выходцы из западнославянских племен. Под давлением
западной христианской
агрессии некоторые западнославянские роды мигрировали в русское
северное
поморье и в частности явились одними из основателей Новгорода. Они и
принесли с
собой базовый язык, социально политический строй и древний вариант
славянской
религии. В-пятых, остров Руян-рус, который населяли варяги-русы,
воспринимался
по крайней мере северными племенами Руси как религиозный духовно
мистический
центр и харизматический родословный корень для верховных правителей и
жрецов.
Не случайно же многие века после насильственной христианизации славяне
в
легендах, сказаниях, ритуалах и в обыденных текстах продолжали
именовать остров
Руян-Буян-рус как "морской пуп". Следовательно, новгородцы приглашали
не безродных скандинавских иноверцев и иноплеменников, у которых в те
времена
не было ни могущественной с точки зрения славян религии, ни
могущественной
социально жреческой структуры, ни родовитых вождей племен, ни
соответствующих
знаний, опыта и харизмы. Приглашали западнославянских легитимных по
своей
родословной вождей, которые обладали необходимыми Руси духовными и
социально
политическими знаниями, опытом и харизмой и заслуживали высшего доверия.
Вызывают сомнение утверждения,
согласно которым россиянам природно
присущи религиозность, приверженность к догматам православной или иной
какой
церкви, а также безграничное доверие к утверждениям священнослужителей.
А
почему же тогда столь популярны поговорки и сказки, в которых
высмеиваются
"любимые священнослужители", аналогичные сказке "О попе и его
работнике Балде"? Почему же от начала христианизации Руси и до наших
дней
православные летописцы, проповедники и исследователи сетуют на
недостаточное
рвение славян в вопросах православной религии? Так в "Повесть временных
лет" православный летописец Нестор пишет: "Но этим и иными способами
вводит в обман
дьявол, всякими хитростями отвращая нас от бога, трубами и
скоморохами,
гуслями и русалиями. Видим ведь игрища утоптанные, с такими толпами
людей на
них, что они давят друг друга, являя зрелище бесом задуманного действа,
- а
церкви пусты; когда же приходит время молитвы, мало людей оказывается в
церкви". Краковский епископ Матвей в ХII веке горевал, что де русский
народ
"Христа лишь по имени признает, а, по сути, в глубине души отрицает".
Количество тенденциозных
утверждений о противоречиях и псевдо
противоречиях характера россиян значительно больше, чем мы упомянули.
Пристрастных
утверждений становится еще больше, когда описывают историю Руси и
огульно
характеризуют россиян как диких варваров, у которых до христианизации
были
дикие славянские предки с дикой языческой религией и дикими обычаями. По
ходу размышлений мы попытаемся разобраться с некоторыми из этих
утверждений. А
пока можем сказать только, что пусть подобные уничижительные
утверждения
останутся на совести тех, кто их делает. Ежели же кто из россиян
поверит этому
унижающему достоинство человека словоблудию, то он сам себе уготовит
незавидную
ничтожную судьбу. Мы же совершенно не верим уничижительным
утверждениям,
которые приписывают россиянам врожденные природные низменные свойства,
склонности к пороку, греху и злу, поскольку не обнаружили ничего
подобного ни в
себе, а также ни в ком из родных, партнеров или вообще знакомых. Мы
вообще не
верим большинству из того, что инкриминируют россиянам и России в
расхожих
ставших притчей во языцех утверждениях. Не верим, что бедами России
являются
дураки и дороги. Не верим, что только российскими являются вопросы:
"Кто
виноват?" и "Что делать?" А особенно не верим, что какой-либо
россиянин мог высказать пожелание: "Пусть у меня сдохнет последняя
корова,
лишь бы у соседа сдохло две". Не верим - и все тут. Мы не верим в то,
что
в России и на Руси смогло восторжествовать некое иго,
вне зависимости от того, к какому году его отнести - к 1238
или к 1917, от которого россияне якобы не могут избавиться, поскольку,
рабство,
якобы, стало частью их сути. Не верим мы, что рабство вошло в душу, дух
и
интеллект, в кровь и плоть россиян, а тем более в составляющие их
аутентичного
триединого Азъ, настолько, что теперь надо по капле выдавливать из себя
раба.
Мы полагаем, что каждый
россиянин в глубине сердца верует в высшие горнии законы, порядок и
справедливость, то есть в горнюю правду. Мы полагаем, что град-Китеж не
виден
не потому, что он скрылся, а потому что люди когда-то перестали его
различать,
и возможно еще не готовы его увидеть. Ведь град-Китеж, как и каждый
человек, есть в трех уровнях - в
персонах явленного мира и перед ними, в сверхЯ, субЯ и Я каждого
человека и
перед ними, то есть в каждом человеке и перед ним. Надо только
избавиться от
тумана неопределенности, двусмысленности, языковой грязи,
нечистоплотности некомпетентности
и легковерности. Избавиться от шор идеологического манипулирования,
которые
упорно пытаются надеть на россиян всяческие любители прикладной
демагогии и
прелестнословия. А главное - надо
собрать воедино ныне раздробленный лик града-Китежа и увидеть его в
полноте
сияния и красоты. И в этом россиянам нужна не столько помощь, сколько
партнерское совместное сотворение, а уж тем более не милостыня. Хотя
грех
отказываться и от помощи в качестве милости, идущей от милосердности как
возможности, способности и готовности
субъекта свободно взаимодействовать с другими для оказания милости
нуждающимся
в ней. Это было бы не по-людски, не по-соседски, не по-правде. Под
милостью в
данном контексте мы понимаем радушное
расположение, реализуемое в добро, благодеяние, щедроту на деле. А под
милостыней -
подаяние, кус Христа-ради, подача нищему в
скудости. Не то, чтобы мы против милостыни как таковой, но только мы не
считаем, что россияне находятся в такой скудости духовного, душевного,
интеллектуального
и даже материального богатства, что им одна дорога - на паперть. Надеемся, что россияне и сами
могут, чем
поделиться. Для этого им необходимо только время, чтобы избавиться от
растерянности, вызванной трехсотлетним непрерывным "реформаторством",
совершаемым зачастую через перевороты и революции. Может быть,
потребуется не
столь много времени, как потребовалось Моисею, который водил свой народ
по
пустыне в течение трех поколений, чтобы рабство было забыто. По
нынешним
временам это составляет что-то около 60-75 лет. Но какое-то время
все-таки
нужно.
Будем надеяться, что времени
потребуется не слишком много - ведь
оно ускоряется, как-никак третье тысячелетие от Рождества Христова. Да
и крутые
проблемы ждать не будут - на их вызов надобно отвечать адекватно и
сразу.
Говорят, что вдвойне дает тот, кто дает сразу, то есть - как только
попросят.
Десятикратно выигрывает тот, кто решает проблемы вовремя - не раньше,
но и не
позже, а по мере их поступления. Однако выявлять проблемы и
формулировать надо
сразу - в момент их проявления. Похоже, что только что мы
проиллюстрировали
черту личности, которую полагаем в качестве одной из существенных черт
личности
россиянина и русича. Склонность ничего не делать впрок, до тех пор,
пока это не
понадобится как практическое средство обеспечения конкретного момента
бытия.
Полагаем, что конструктивно и практически эффективно нежелание все
скрупулезно
рассчитывать наперед, но в то же время быть готовым к тому, чтобы
распознать
этот конкретный момент, когда он придет, принять истинно верное решение
и
реализовать его.
В то же время есть множество
бытовых устойчивых штампов,
отражающих бытовые представления, которым люди почему-то верят - об
англичанине, немце, французе или русском как таковом, а еще, хлестче
того, о
лице кавказской национальности. Эти представления гуляют среди людей в
быту,
несмотря на то, что они лично не знакомы ни с одним англичанином,
немцем или
французом. Более того, если есть знакомые иностранцы, то эти
представления
гуляют вопреки тому, что среди знакомых англичан, немцев или французов
нет ни
одного, кто подходил бы под прокрустово ложе типового штампа. Есть
множество научно
философских сочинений, докладов на конференциях, протоколов обсуждения,
беллетристики, в которых умные люди анализируют, синтезируют и
представляют на
общее обозрение свои соображения о национальных характерах,
предназначениях,
предопределениях и миссиях различных народов, этносов, государств.
Представляют
как истину в последней инстанции и сами не сомневаются в том, что это
истина, и
в том, что они вправе судить о других по своим меркам и непонятно
откуда
взявшихся домыслов.
Оставим в стороне варианты, в
которых суждения являются средствами
достижения каких-либо целей. При этом, как правило, средства бывают
искажены
или даже извращены путем вольной или невольной, осознанной или
неосознанной
подгонки под цели. Причем, не имеет значения какие благие или не благие
цели и
намерения у авторов суждений - цели, не ограниченные, гуманистической
парадигмой, всегда обращают средства против человека и общества.
Значительно
больший интерес вызывают у нас расхожие бытовые штампы, устойчиво
существующие
в головах большинства людей, которые не используют эти штампы и не
собираются
использовать их в качестве средств чего-нибудь. Зачем они нужны людям?
Ведь от
них, кроме вреда, никакой пользы. Благодаря им недобросовестные
политики имеют
возможность манипулировать сознанием масс людей, создавать образы
врагов,
натравливать одни сообщества на другие, греть на этом руки и получать
своекорыстную сиюминутную выгоду. Чем больше критическое количество
людей, в
головах которых застряли эти штампы, тем легче манипулировать
общественным сознанием.
Создается ощущение, что самый
большой вред происходит от
произведений тех авторов, которые сами по себе являются порядочными,
вызывающими уважение и симпатии людьми, и предъявляют миру свои
суждения без
выгоды для себя и даже, зачастую, с риском для собственной жизни. В
качестве
примера можно предложить прелестную книгу Вальтера Шубарта "Европа и
душа
Востока", написанную в 1938 году и изданную на русском языке
издательством
"Русская идея" в 2000 году. Мы не собираемся анализировать и
комментировать эту книгу - тому, кому интересна эта тема, лучше
прочесть ее и
содержащиеся в ней приложения и комментарии самому. Просто, чтобы
предъявить
свое впечатление, приведем случайно "выхваченные" в процессе ее
чтения слова и фразы.
"Англичанин, оглядываясь
вокруг, считает - так, как сейчас,
хорошо и так должно остаться (успех, выгода, добыча, прибыль) - все,
что есть
свято, потому что есть. Русский считает, что так не должно быть. У
одних -
компромисс, реализм, достижение возможного, у других - максимализм, дух
и
общественная жизнь одно и то же. Англичанин приносит идею в жертву
земному
(приспосабливает идею), русский приносит земное в жертву идее, реализуя
идею
мессианства. Прагматическая окраска английской философии, даже когда
она
толкует о трансцендентальном. Сакральная окраска русскости, даже когда
он
посвящает себя решению практических задач. Английская философия
кончается там,
где начинается философия истинная. Английские философы одновременно
государственные
деятели. Механистическое созерцание природы - англичанин смотрит на мир
как
гигантскую фабрику. Государство как фабрика (Пруссия). Литература и
наука для
англичанина украшение и роскошь, аристократы извинялись, что пишут
стихи.
Английская национальная миссия нацелена на мировое господство, а не на
спасение
мира, и исходит она из практических соображений, а не из нравственных
идеалов.
Народ свои разбойничьи набеги провозглашает священными - в этом суть
английского мессианства. Идеал джентльмена, отзвук готического духа
рыцарства.
Американизм - это англосакство без джентлементского идеала. Форма
вырождения
английской сущности.
Англичанин типовой
индивидуалист. Немец хочет уединенности и
отличаться от других, радикальный индивидуалист. Француз хочет
отличаться от других,
но не стремится к уединенности, индивидуалистическое социальное
существо,
индивидуалист внутри социальной жизни, престиж. Французы любят землю, а
не
небеса, хотя на земле они охотней размышляют, чем действуют. Право на
жизнь,
гедонизм. Скепсис. Политес, вежливость. Стянутое с небес на землю
христианство.
Дух аналитика, юридическое право и регламент, этикет, дисциплина, нормы
происходящие из надуманных абстракций, жизнь подчиняется разуму и
рассудку.
Заранее продуманный план и способ действия на все случаи. Никаких
ипровизаций.
Высший принцип - социальная справедливость, равенство перед законом, а
не
любовь "единственное, чего мы ждем от будущего, единственное, чего мы
хотим - это справедливости". (В. Гюго)
Русский не хочет уединенности и
не хочет отличаться от других,
братский всечеловек. Дают волю инстинктам, даже во вред себе.
Внерациональность. Бог, душа и сердце. Безнормативность и Духовность,
Горняя,
небесная богатая фантазия. Скорее склонен к импровизации, чем к
скрупулезному
планированию. От беспорядочности только один шаг до крайностей. Две
крайности -
абсолютизм и анархия, святость и варварство, Бог и хаос. Стихийная
сила, но не
формальная дисциплина. Слепая неистовая воля. Слова "равны перед
Богом" и "братья во Христе" как живая правда. Обращение по имени
отчеству. Достоинство нищего. Солидарность.
Свобода из-за вечности, а не из земных приобретений. Самоисцеление, а
не
самовозвышение. Становясь атеистом, тут же превращается в нигилиста.
Старчество
- служение Богу и миру. Русская мысль о братстве и всечеловеке с его
всеобъемлющей братской любовью". На этом мы прервем контекстную выборку
из
книги Вальтера Шубарта "Европа и душа Востока".
Вероятно, здесь мы наблюдаем
проявленья проблем, которые можно
назвать "полная и неполная истина", "полная и неполная
правда". Искренняя симпатия и любовь автора к русскому народу и вера в
его
спасительную миссию подкупает и вызывает ответную симпатию у нас как
русских
читателей. Вызывает уважение человек, который не побоялся возвысить
свой голос
против шквала очернительства русского народа. Признаем, что автор
продемонстрировал ум и эрудицию и ему потребовалась много сил и
мужества, чтобы
написать и издать эту книгу в 1938 году в Швейцарии. Однако со своей
стороны мы
не считаем себя вправе давать характеристики какому-либо народу,
включая
российский многонациональный народ, русских или русичей. По этим же
причинам мы
не хотим комментировать книгу Вальтера Шубарта. Однако некоторые
риторические
вопросы и свои умозрительные ответы мы хотели бы зафиксировать.
Понимал ли автор, какой
конкретный вред и какую конкретную пользу
может принести его книга? И кому? И чего больше? Вероятнее всего - не
понимал.
Возможно, кому-то эта книга принесла текущую помощь, поддержав в лихую
пору -
например, пленным русским в немецком концлагере, поддержав их морально
и
эмоционально. Несомненно, в долговременном измерении для многих людей
книга
принесла вред - хотя бы в качестве прелести, которая манит некоторых
россиян с
незрелыми личностями к мессианскому самомнению и гордыне. Кстати, о
гордыне.
Советская пропаганда и советские словари втолковали нам, что гордость -
это прекрасное чувство и его надо культивировать, а гордыня
- это грех и ее надо изживать. Ничего подобного - гордыня
это превосходная степень гордости. Не больше, но и не меньше.
Цивилизованные
люди гордятся интеллектом и цивилизованностью, но при этом губят
гуманистическую духовность и культуру, душевность и традиционный уклад,
а
интеллект подменяют бездуховной рассудочностью. Причем, продлив среднюю
продолжительность жизни и повысив уровень жизни в "высокоразвитых"
странах, они там же снизили качество жизни. А ведь именно гордость
(чувство
собственного превосходства над другими) - это грех. Да и чем гордятся
цивилизованные
народы? Поголовным трудом (деятельностью с большим напряжением
умственных и физических
сил) и всеобщей работой (подневольным делом)? Подневольные трудоголики
- это
очень похоже на разновидность садомазохизма. В контексте,
противоположном
гордости, смиренье человека
определяется как состояние осознания
своих слабостей и недостатков, раскаянье, скромность; нравственное
усмирение,
укрощение, обуздание своей гордости, подчинение своей воли совести,
духу, душе
и интеллекту.
Взгляд зарубежных потенциальных
партнеров на характеристики
россиянина как такового через призму тех или иных конкретных отношений
отличен
от взгляда на эти же характеристики самого россиянина, который смотрит
на них
через призму других совокупностей отношений. К тому же иностранцы
смотрят на
россиян как бы извне, а россияне смотрят на себя изнутри отношений.
Соответственно
выводы о характере абстрактного россиянина могут быть не адекватны, что
еще
усиливается длительной оторванностью россиян от мирового сообщества.
Насколько
приятно слышать похвалы и авансы в адрес свой, своего народа и своей
страны,
настолько же обидно сознавать, что состоянье России и россиян не дает
им
достаточных оснований для того, чтобы восхищаться своими достоинствами
и
испытывать чувство удовлетворения от результатов своего умного,
духовного и
душевного делания. Бывает трудно не поддаться соблазну прелести и
постараться
честно и не тая дать самим себе ответы на простой вопрос: Полезно ли,
конструктивно ли и, наконец, нравственно ли создавать обобщенную
типовую
характеристику абстрактного человека той или иной национальности, а
затем
оценивать по ней конкретных людей?
Мы считаем, что использование
абстрактной характеристики для
оценивания конкретного человека безнравственно, а порой и
злонравственно. В то
же время существует все-таки понятие национальный характер, которое
понимают как
обобщенную или усредненную характеристику совокупности людей,
породивших нацию.
В предлагаемой нами концепции этот термин может быть употреблен для
обозначения
нации как консубъекта. Вполне вероятно, что может быть разработана
методика
определения характеристик этого консубъекта. Однако остаются все те же
вопросы
о предназначении этих характеристик и о нравственности или
безнравственности
конкретных их применений. Мы признаем инаковость национальностей,
этносов,
наций и народов, которая обусловлена влиянием геополитической,
ландшафтной и
прочей обстановки возникновения, становления, внутренних и внешних
взаимодействий. Мы признаем, что инаковость сообществ накладывает свой
отпечаток на характеры индивидуальных и агрегированных субъектов,
создавая
предпосылки возникновения у них определенного типа инаковости. Особенно
это
проявляется, когда субъекты взаимодействуют в обстановке своей среды.
Вообще-то
у национального консубъекта, чьи характеристики складываются благодаря
влиянию
большого количества породивших и непрерывно возрождающих его субъектов,
совокупность свойств может приближаться к типовой расхожей
характеристике. Этот
процесс может синхронизироваться тем, что порождающие субъекты поверили
расхожим взглядам на национальный характер на бытовом уровне или
создаваемому
пропагандой прообразу, а также тем, что им по какой-либо причине
импонируют
приписываемые характеристики. Более того, в силу конформизма или боязни
показать свою действительную инаковость в публичных отношениях, в
которых
консубъект проявляется более явно, они начинают вести себя в
соответствии с
этой типовой характеристикой национального характера.
Однако, когда субъекты
взаимодействуют с представителями других
сообществ и в другой обстановке их межнациональная инаковость может
нивелироваться
или видоизменяться. Это может в еще большей степени повышать
неадекватность
характеристик. Да мало ли еще и других искажающих моментов, которые
снижают
уровень адекватности обобщенных абстрактных характеристик. Значит ли
это, что
национальную инаковость и национальные особенности характеров
национальных
консубъектов и индивидуальных субъектов не следует учитывать во
взаимодействиях
ввиду очень высокого уровня их неадекватности, доводящей эти понятия
почти до
уровня бессмысленных? Вероятно, учитывать надо, но не вполне понятно
зачем,
где, когда и как это делать. При этом вопрос о степени нравственности
или
безнравственности разработки и использования обобщенных характеристик
для
оценки других остается ключевым. Не менее остро этот вопрос стоит
относительно
применения субъектами подобных характеристик к себе самим. Например,
использование субъектом обобщенных характеристик национального
характера для
обоснования и оправдания собственных поступков и поведения вероятнее
всего
следует квалифицировать как безнравственное. С другой стороны как-то
учитывать
черты национального характера для оценки собственной
предрасположенности,
вероятно, как-то возможно. Но прежде все-таки надо решить, как и зачем
это
делать. В любом случае неконструктивно и даже порочно предполагать, что
человек
порочен по своей природе. Если при этом вспомнить поговорку о том, что
недостатки человека есть продолжение его же достоинств, то становится
очевидным,
что недостатки, порок и даже зло являются не исходными природными
свойствами
человека, а результатом извращения его положительных природных качеств.
Мы предполагаем, что наиболее
конструктивным и эффективным
средством обеспечения бытия является способность субъекта определять
значения
характеристик как своих собственных, так и своих партнеров на
конкретном
текущем отрезке процесса-времени по конкретным делам и поступкам, и
делать
соответствующие выборы применительно к себе. Главный же выбор
по-прежнему
заключен не столько в определении кем и как я был или кем и как я буду,
сколько
в самоопределении кем и как быть сейчас. Это проблема сомнения и
становления,
текущей смерти и текущего переопределения, выхода из дурного цикла
нежизни и несмерти
в малом кольце сансары. В то же время это самоопределения,
самоидентификация и
выбор какими быть глубинным свойствам триединого Азъ и составляющих его
сверхЯ,
суб Я и Я сейчас, всегда и вовеки веков. Фактически это вопрос о выборе
модели
природы и бытия себя самого, мегакосма и всего сущего в нем.
Если
сам о себе не заботишься,
то
почему другие должны заботиться о тебе?
Если
не позаботишься о себе сам, то кто о тебе позаботится?
Но
если ты заботишься только о себе, то зачем ты есть?
Концепция религиозного или
научно философского космогонического
учения должна содержать модель природы и бытия мегакосма и всего сущего
в нем,
метасловарь, включающую базовые метаобразы, а также средства их
созидания и
обретения концептуального уровня. На основании концепции в процессе
реализации
строятся соответствующие элементы идеального, стратегического,
оперативного и
операционного уровней. То, что мы обозначили как метаобразы должно
содержать в
себе метаимена, метасимволы и метазнаки, метакоды и метаинформации.
Приставка
"мета" применена к понятиям концептуального уровня, поскольку они
должны использоваться для построения аналогичных понятий на других
уровнях
принятия и реализации решений. К тому же они должны применяться не
только для
инициации посвященных и профанационного образования, но также как
средства
выявления формулирования и даже решения актуальных проблем и как
средства
восхождения, развития, совершенствования и роста субъектов и
консубъектов. Хотя
в принципе мы допускаем, что инициатические и профанационные образы и
средства
могут иметь между собой какие-то различия, которые обоснованы уровнями
подготовленности субъектов, мерами безопасности или каким-либо иными
обстоятельствами. Изображения метасимволов и метазнаков, должны
содержать в
себе имена глубинных сущностей и структурные связи между ними, а также
операции
образования глубинных образов через прохождение из глубины сердца в
беспредельную длинь процессов в беспредельном просторе глуби, выси,
шири и
дали. За процессами образования глубинных образов должно идти
соответствующее
глубинное информационное преобразование этих образов, следовательно
должны быть
образы, содержащие операции глубинного преобразования. В процессе
обретения
метасимвола субъект должен иметь возможность как бы пересоздать его
изображение
и в этом процессе почувствовать его суть. Именно в этом смысле мы
понимаем
утверждение, что изображения метасимволов учения должны содержать
метакоды и
метаинформации.
Например, показанное на рисунке
7-3 изображение шестиконечного православного креста предполагает,
что в
процессе обретения человек имеет возможность мысленно или с помощью
натуральной
длинной ленты образовать это крест. Так он получает код, через
применение
которого обретает образ, содержащийся в нем символ и обозначаемую ими
суть
предмета рассмотрения. В этом изображении не содержится в явном виде
информация, поэтому на рисунке 7-4 в томе
2 мы изобразили схему получения информаций. На основании этой схемы
можно
сказать, что хотя бы появились информации, которые касаются состояния
представлений
самого человека. Наблюдая обновление соответствующих своих образов,
символов и
представлений о сути явлений в процессе их создания, преобразования и
обретения, воспроизводя состояния до и после и примененные операции
преобразования, человек приобретает информации о собственных процессах.
Есть
интегральные коды, которые не изображены нигде, но могут быть созданы и
обретены человеком в собственном эндокосме за счет интеграции некой
необходимой
и достаточной совокупности составляющих кодов. Например, град Китеж.
Участвуя в процессах бытия
человек, одновременно создает и
обретает индивидуальную и совместную с другими систему взаимно
связанных
образов, кодов и преобразований, словарь имен и классификатор
характеристик
объектов, субъектов и консубъектов. Выбирая и фиксируя систему
устойчивых и
практически полезных архетипов этих компонент он создает основу
концепции.
Создавая и обретая концепцию учения и соответствующий ей словарь, а
затем
применяя их на всех практических уровнях в процессе выявления,
формулирования и
решения актуальных проблем и задач, человек определяет, создает и
обретает свою
судьбу и бытие на конкретных отрезках процесса-времени. Нет ни того,
что
сначала, ни того, что потом - все вместе, одновременно и всегда. Говоря
об
отрезке процесса-времени, мы имеем в виду, что процесс происходит
одновременно
на пяти уровнях (ИСТОК) в пяти мигах актуального настоящего с учетом
соответствующих
мигов непосредственного прошлого и непосредственного будущего. (Рисунок 7-5а в томе 2).
Ранее мы предложили принцип
организации идеального полноценного
бытия, согласно которому на каждом стыке между уровнями происходит
обновление
предмета и субъекта процесса. (Рисунок
7-2б). По воле субъекта предмет в конечном завершенном состоянии
предыдущего мига как бы исчезает из процесса, а для субъекта наступает
технологическая временная текущая смерть в явленном мире. Начинается
нелокальный отрезок процесса, на котором принимаются решения о
последующем
продолжении процесса в явленном мире, об обновлении состояний предмета
и субъекта,
об их возвращении в явленный мир в состояниях, которые соответствуют
началу
нового мига. В это же нелокальное время, возможно, происходит
исправление
погрешностей, которые накопились на отрезке прошедшего мига (кванта
процесса),
и адаптация к изменившимся обстоятельствам. Мы предположили, что без
подобных
нелокальных витков процесса предмет и субъект не только останавливаются
в своем
развитии и совершенствовании, но даже деградируют, регрессируют и
дезадаптируются. Поскольку процесс абстрактный, то мы его описывали как
протекающий в явленном мире вообще. При конкретизации процесса
необходимо
конкретизировать и сферу (мир), в котором он протекает. Например, это
может
быть рынок, промышленное производство, индивидуальный мир человека.
Когда
процесс заканчивается в мире, в котором он протекал, то соответственно
из этого
мира исчезает его предмет и наступает смерть в этом мире его субъекта.
Напоминаем,
что это не означает физического уничтожения вещи, выступающей в роли
предмета
процесса, а также не означает физической смерти человека, который
породил
процесс и его субъекта. Собственно вещь и человек могут стать
соответственно
предметом и субъектом другого процесса в другом мире.
Предлагаем использовать образы
нелокальных
процессов для описания двух крайне противоположных взглядов на
физическую
смерть и бытие, которые мы с некоторой степенью условности приписали
цивилизованному христианину и сохранившему остатки древней религии
славянину.
Для сохранивших хотя бы в глубине сердца основы славянской религии
русичей, а
также для большинства представителей восточных народов, смерть означает
начало
нового отрезка процесса мегабытия. (Рисунок
7-5б в томе 2). Причем, это мистический отрезок, который во всех
случаях
протекает вне явленного мира. Например, он может протекать в
медиакосме, а
возможно даже субкосме и пракосме. При этом, когда рассматривается
промежуточный мистический отрезок бытия человека, то это значит, что
речь идет
о начале нового этапа становления и обновления включающего СверхЯ, субЯ
и Я
триединого Азъ человека, включающего дух, душу и интеллект триединой
личности
человека, а также включающего психику и тело организма человека. Когда
же речь
идет о физической смерти человека, то это значит, что для него
начинается
процесс постбытия.
Для мышления, которое
определяется смесью
христианских догм и законов овеществленной цивилизации, смерть является
только
финальной точкой, обозначающей конец земной жизни, который приходит не
по воле
самого человека, а по чьей-то чужой воле. Люди с подобным мышлением
страшатся
наступления смерти, хотя и воспринимают свое пребывание в явленном мире
как
пребывание в "юдоли слез и печали", поскольку по различным причинам и
обстоятельствам они реализуют не бытие и даже не жизнь, а страдательное
существование. Для них смерть обозначает обрыв процесса, за которым
либо ничего
не происходит, либо кто-то запускает другой чуждый им и независящий от
них
процесс. Этого они боятся еще больше, чем безликого подневольного
страдательного
существования в овеществленном мире. Именно на этом страхе смерти
паразитируют
некоторые философии, церкви, секты и психоаналитики. (Рисунок
7-5в в томе 2).
Кроме того, для человека
овеществленного
цивилизованного мира, очевидно, что если товар куплен и потреблен, то
он перестал
существовать. Потребленные продукты исчезают в никуда, в ничтожество.
Точно
также и человек после смерти уходит в ничто, в нигде, в никогда. Смерть
является необратимым концом всего, после нее в лучшем случае
неизвестность,
которая также не сулит ничего хорошего. На что может рассчитывать
падший от
природы греховный уничиженный обезличенный человек? Различного рода
апокалипсисы от библейского до экологического или социального, которыми
пугают
цивилизованного человека все, кому не лень, вносят свою лепту,
разрушающую
личностное мировосприятие человека. Переживание апокалипсисов как некой
независящей от воли самого человека данности повергает его в состояние
непрерывной квазисмерти-квазивозрождения, которые происходят в земном
страдательном существовании. Находясь в этом дурном безначальном и
бесконечном
цикле, человек не обновляется, не развивается и не восходит к личному
подобию
Образу Бога, поскольку практически не верует, не видит смысла, не
стремится.
Фактически нет ни мигов становления, ни мистических возвышающих
отрезков
процесса между ними.
Ныряние Ивана-царевича в
кипящие котлы, которые не пригодны для
обыденной жизни в явленном мире, является сказочным образом описанных
нами
промежуточных нелокальных отрезков процесса. Иван-царевич, выполняя
несбыточные
желания царя, прошел через различные странные миры и обрел необходимый
опыт
прохождения через них. Он также приобрел уверенность в естественности
прохождения процессов в беспредельности
и ныряет в кипящие котлы спокойно с уверенностью в положительный исход
дела.
Поэтому он в итоге выныривает из котлов обновленным - молодым,
красивым, мудрым
да еще наделенным харизмой быть царем. Царь же, который хотел все
получить не
созидая, не обретая, не обновляясь, естественно не имел необходимых
качеств, лишился
царственной харизмы и права быть царем, а потому, прыгнув в котел,
просто
сварился. Такие вот сказки.
Далее продолжим
развитие
темы - загадки и разгадки, вопросы и ответы, эрудиция и воображение,
традиция и
развитие, создание и обретение,
Загадки и разгадки можно
отнести к большой группе разновидностей
камуфляжных кодов. Предлагаем в
рамках наших размышлений, чтобы
укоротить термины, заменить "разновидность камуфляжного кода" на
термин "камуфляж", а
термин "совокупность разновидностей камуфляжных кодов" - на термин
"камуфляжи". Каждый
камуфляж имел свое предназначение. Эзотерический
камуфляж является средством взаимодействия посвященных высокого ранга в
процессах
выявления и формулирования проблем, а также в процессах развития,
совершенствования, роста, формализации и сохранения глубинного
понятийно терминологического
аппарата, совершенствования. Кроме того, он служил исходной базой для
построения других разновидностей камуфляжа, а также средством
камуфлирования
истинных имен и процедур, которые не следовало применять всуе, дабы не
навредить
ненароком всему мегакосму. Не исключено, что комплекс истинных имен и
процедур
в целом не был доступен никому, поскольку относился либо к тайне, либо
к
таинственному. Хотя некоторые истинные имена могли быть доступны высшим
посвященным, а также мистикам, провидцам и магам в соответствии с
достигнутыми
ими ступенями истинного восхождения. Одновременно эзотерический
камуфляж служил
для того, чтобы отсечь от эзотерического взаимодействия тех, что не
входил в
круг посвященных. Однако защита знаний с помощью эзотерического
камуфляжа могла
оказаться неэффективной если, если вместо него не предложить
отвлекающий
камуфляж. Например, эзотерический камуфляж может иметь несколько
ступеней,
которые соответствуют ступеням восхождения, посвящения, приближения к
таинственному
и тайнам внутреннего глубинного круга. Здесь камуфляж каждого уровня
служил средством
взаимодействия на самом уровне и с посвященными более близкого к
глубинному
уровня и одновременно отвлекал от более глубинных камуфляжей.
Отвлекающий профанирующий камуфляж, служил в
основном для предоставления дезинформации и псевдоинформации при
взаимодействия
с профанами с целью защиты от искажения, извращения, опошления,
осквернения
того, что требует уважительного бережного отношения. Церковный
камуфляж служил для защиты от гонений последователей и
хранителей славянской религии, а также от цензуры православной церкви
понятий,
встроенных в славянский православный вариант под личиной христианских.
Также
поступали все другие народы, пытаясь при христианизации сохранить хотя
бы
глубинное ядро своего варианта древней религии. При этом понятия
славянской
религии камуфлировались в религиозных текстах, летописях, преданиях,
былинах,
поговорках, в ритуалах и обычаях, в религиозных и светских искусствах,
в
народных промыслах и так далее.
В ответ служители православной
церкви применяли контркамуфляж,
который, пожалуй,
следует называть информационным, личностным
и физическим геноцидом. Они всюду, куда могли дотянуться, извращали
смысл понятий
и самой концепции дохристианской религии, уничтожали архитектурные,
музыкальные,
живописные и текстовые памятники а заодно письменность, музыкальные
инструменты, обиходные предметы народных промыслов и самих носителей
дохристианской религии. Западных славян, похоже уничтожали упреждающе
сотнями
тысяч, целыми племенами и народами. С одной стороны, потому что не
надеялись,
что славяне покорятся и предадут свою религию, а с другой стороны,
хотели
освободить от славян и захватить нужные им территории. Конечно же,
геноцид не
является исходным определяющим свойством христианской религии. Это
характеристика
тех, кто ее использовал в качестве прикрытия для агрессивной экспансии.
Однако
при этом они извращали исходные догматы христианской религии с помощью
толкований,
интерпретаций, указов, постановлений и прочих средств чиновничьего и
силового
аппарата церквей.
Конечно же, в этих ситуациях
народы защищали свою дохристианскую религию и себя теми способами,
которые
считали для себя приемлемыми и доступными. В этом контексте можно
рассмотреть
три этапа реакции на христианскую агрессию на примере славян Киева,
Новгорода и
острова Руяна, ставшего после истребления славянского населения
немецким
островом Рюгеном. Киевские славяне как трава согнулись под христианской
бурей,
которая пришла на мечах и копьях княжеских дружин. Во-первых, потому
что
почитание князя было так велико, что они морально не могли противиться
его
воле, а тем более поднять против него оружие. Во-вторых, они надеялись,
что
буря пройдет и они смогут разогнуться. Так что, хоть и под давлением
насилия со
стороны княжеских дружин, но они вошли в реку для поголовного крещения.
Жрецов,
волхвов и активных последователей конечно же убили.
В Новгороде
структура
жрецов славянской религии стояла над светскими правителями, а общая
структура
жрецов и верующих была настолько сильна, что они надеялись сохранить
славянскую
религию, приняв формально православие, под обликом которого осталась бы
дохристианская структура и соответствующий уклад. На первом этапе им
удалось
организовать всенародное сопротивление. И
даже после того, как Добрыня спалив город в 988 году принудил Новгород
к
христианизации им удавалось некоторое время сохранять общественно
политическую
структуру и большое влияние славянской религии. Более того, формально
приняв
православие Новгород еще долго сопротивлялся агрессивной экспансии
православной
религии. В 1071 году волхвы подняли восстание. Когда епископ предложил
тем, кто
хочет исповедовать православную религию, стать около него,
а тем, кто готов вернуться к славянской религии, стать около
волхва. На сторону волхва и старой религии перешло все население, а
около
епископа осталась только дружина князя Глеба. Восставших удалось
разогнать,
только после того, как князь Глеб вероломно убил во время переговоров
волхва.
Так сильно было влияние волхвов и славянской религии после почти 100
лет с
момента насильственной христианизации. Православие держалось только на
воинской
силе князя еще очень долго, судя по тому, что по свидетельству
новгородских
летописей в 1227 году почти через два с половиной века после
принуждения к
крещению волхвы опять подняли восстание. Это тем более впечатляет,
что
самому Новгороду к моменту христианизации было немногим более 100 лет.
Первое
летописное упоминание о Новгороде, да и то подвергаемое сомнению,
связано с 859
годом, а самая древняя из найденных археологами новгородских построек
пока
датируется 953 годом. Население Новгорода составляли выходцы из
различных
племен западных славян и варягов-русы, которые по независимым
свидетельствам
некоторых историков того времени, также были западными славянами.
Понятно, что организовать за
короткое время исторического
существования Новгорода до христианизации 988 года мощную преданную
славянской
религии общину во главе с мощной пользующейся авторитетом жреческой
структурой,
стоящей выше светской власти, можно было только в том случае, если эта
религия
естественна для людей. Настолько мощная и естественная, что, возможно,
было в
течение столетий поддерживать активное сопротивление, а потом
фактически
адаптировать православие к глубинным основам старой религии и
соответствующим
обычаям населения. Настолько естественная, что было возможно в течение
нескольких столетий передавать из поколения в поколение суть старой
религии.
Для этого необходимо было большое доверие к жрецам и к религии, а также
и
готовность людей воссоздавать, обретать и сохранять ее. То, что люди,
пришедшие
из разных славянских племен, могли так естественно и быстро
согласоваться между
собой в вопросах религии, говорит о том, что даже если в их племенах
были
разные варианты древней религии, то при этом они были достаточно близки
друг
другу.
Это же свидетельствует в пользу
тех мнений, которые утверждают,
что варяги-русы были не из скандинавского, а западнославянского
племени. В
"Повести временных лет" в связи с призванием Рюрика сказано: "И
от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же - те люди из
варягов, а
прежде были славянами". Умолчание всеми православными летописями о
родословной Рюрика и племенной принадлежности пришедшей с ним дружине,
которую
составляли варяги-русы, было не случайным. Это была часть системы
уничтожения
всего и умолчания обо всем, что проливало свет на истинную суть
славянской
религии и характеристики исповедующих ее племен и народов.
Важной фигурой умолчания
является находящийся в Балтийском море
святой для славян остров известный под разными именами - Ран, Руян,
фольклорный
Буян, немецкий Рюген. Арабские историки называют это остров "Рус".
Муккаддаси в 966 голу сообщает: " Что касается русов, то они живут на
острове нездоровом, окруженным озером. И это крепость, защищающая их от
нападений.
Общая численность их достигает ста тысяч человек. И нет у них пашен и
скота.
Страна их граничит со страной славян, и они нападают на последних,
поедают и
расхищают их добро и захватывают их в плен". Гардизи пишет: "Рус -
это остров, который лежит в море. И этот остров - три дня пути на три
дня пути
и весь в деревьях. И леса и земля его имеют много влаги, так, что если
поставить ногу на сырое место, земля задрожит от влажности. У них есть
царь,
которого называют хакан-рус. На острове живет около ста тысяч человек".
По
меркам того времени это очень многочисленный народ. Немецкий историк
Гельмгольд
пишет, что католические миссионеры "пройдя много славянских земель,
пришли
к тем, которые называются ранами, или руянами, и живут в сердце моря.
Там
находится очаг заблуждений и гнездо идолопоклонства". При этом
Гельмгольд
отмечает, что "среди них не найти ни одного нуждающегося или нищего".
В славянской Голубиной книге остров называется "пуп морской".
Летописец Нестор в "Повести временных лет" неоднозначно относит
население Руяна к славянам, отождествляя их названия "варяги" и
"русь, русы" и приравнивая к таким племенным названиям
"поляне". При этом он полностью отрицает их какую-либо принадлежность
к скандинавским народам. При этом ни Нестор, ни другие православные
летописцы,
ни словом не упоминают о происхождении варяго-русского пришельца
Рюрика,
призванного в 862 году править в Киеве. Ни об варяго-русском острове
Русе, Руяне,
откуда по совокупности свидетельств вероятнее всего прибыл Рюрик. При
том, что
у славян он считался святым островом и был центром славянской религии.
В
славянской терминологии Руян был "пуп морской" и сопоставлялся с
Иерусалимом - "пупом земным". В православном камуфляже славяне
кодировали его как Рим, а в былинном - как остров Буян. Для славянской
религии
и славянских народов святой остров Руян играл такую же роль, какую для
христианства играли Иерусалим и Рим вместе взятые, а заодно с ними и
Византия.
Именно поэтому любое упоминание о нем в православных текстах было
строжайше
запрещено.
Еще одной причиной запрета на
упоминание о святом острове является
то, что сто тысяч его жителей во главе с духовными и светскими
структурами приняли
решение до конца отстаивать свою религию, государственность,
суверенитет и свое
неотъемлемое право на их выбор. Такое решение было обосновано еще и
тем, что
Руян был последним оплотом славянской религии, символом веры для всех
подвергшихся насильственной христианизации славян, поддерживающим их
способность и готовность сохранять свой взгляд на мироустройство. После
христианизации всех стран, окружающих Руян-Рус, защитники славянской
религии
продержались еще двести лет, прежде чем были полностью истреблены.
Точно также,
как полностью были истреблены тесно связанные с Руяном-Русом полабские
славяне,
у которых была такая же или, может быть, та же могущественная жреческая
структура. Такой структуры не было ни у германских племен, ни у других
западных
славян - чехов, моравов, поляков и словаков. У христианских
колонизаторов была
возможность либо покорить их, либо привлечь на свою сторону. Поэтому и
не было
необходимости уничтожать их поголовно. Достаточно было расправиться с
активными
противниками христианизации, а остальные нужны были, чтобы производить
материальные
блага, воевать за христианскую идею и поклоняться. Обезлюдевший остров
стал
заселяться немцами. Славянские святилища были снесены и на их месте
стали
возводиться христианские храмы. Сама земля на острове не представляла
какой-либо хозяйственной ценности и численность немецкого населения на
нем в
последующие за захватом века была мала.
Однако стратегическое духовное,
геополитическое и экономическое значение
уничтожения славянского теократизированного государства с приматом
духовной
власти над светской, которое находилось в "морском пупе" (Голубиная
книга) в "сердце моря" (Гельмгольд), было весьма велико. Прежде
всего, уничтожался славянский "морской" сакральный центр мироздания,
противостоящий христианскому "земному" сакральному центру мироздания
в Иерусалиме. Уничтожался сакральный символ веры и центр развития и
сохранения
славянской религии вместе с центральной жреческой структурой и
зафиксированными
космогоническими знаниями. В северном духовном центре Европы устранялся
мощный
и пользующийся авторитетом теократический соперник, к которому могли
обратиться
духовные и светские власти христианизированных стран в своем
противостоянии
теократической власти Рима и Византии. Устранялась независимая страна,
которая
могла быть нежелательным примером для народов христианизированных стран
и
потенциальным союзником в их противостоянии христианской теократии.
Уничтожались исторические духовные и родословные корни Руси, чтобы была
возможность объявлять Русь и населяющие ее племена безродными дикими
безграмотными язычниками. И, наконец, захватывался ключевой форпост на
стратегическом экономическом пути из варяг в греки.
Вторым по значению аналогичным
Руяну-Русу северным центром был
Новгород. Третьим опасным центром был Киев, а впоследствии Москва -
"третий Рим". Необходимым условием для установления контроля над
этими центрами было не просто непременное физическое и историческое
уничтожение
дохристианской религии, ее духовных центров и ее активных носителей, но
также и
уничтожение исторической памяти, и извращение представлении о религии и
родословной
славянских предков. Вполне закономерно, что православный летописец
Нестор в
"Повести временных лет начинает историю земли Русской от Киева, первого
князя Руси вещего Олега и его безродного неизвестно откуда взявшегося
предка
Рюрика, которого дикие варварские племена пригласили княжить из якобы
цивилизованного скандинавского мира. "Откуда есть пошла Русская земля,
кто
в Киеве нача первее княжити, и откуда Русская земля стала есть". Ему
вторит А.К.Толстой: "Послушайте ребята, что вам расскажет дед. Земля у
нас
богата, порядка ж только нет". Вот так и пошло поехало. До сих пор не
только западные и православные проповедники и исследователи, но также и
детерминированные
христианским мировоззрением доморощенные российские исследователи
уничтожают и
извращают все свидетельства о дохристианской религии, о культуре и
научных
знаниях, о родословной, характере и состоянии славянских племен, об их
роли и
влиянии на мировые процессы.
Пользуясь двойными стандартами
они вольно и невольно
уничижительные образы славянской религии и ее последователей. Так
летописец
Нестор в "Повести временных лет" дает уничижительный образ
справедливо убивших князя Игоря древлян: "А древляне жили звериным
обычаем, жили по-скотски …". В то же время первой христианке
среди
неверных язычников Ольге, которая вероломно мстит древлянам за смерть
своего
мужа, он приписывает образ бисера, светящегося в кале: "Си бо сьяше аки
луна в нощи, тако и си в неверных человецех свтящеся, аки бисер в кале:
кальни
бо беша грехом, неомовении крещеньем святым". Хотя древляне, которые
защищали себя, вселенский закон, вселенскую правду и справедливость
были в
своем праве убить Игоря, который собрав с древлян нещадную дань
вернулся еще
раз, чтобы отобрать оставшееся. По славянской религии Игорь нарушил
человеческий и вселенский закон, правду и справедливость, и этим
нарушил
гармонию Мироздания. Убивая Игоря, древляне совершали восстановление
закона,
справедливости и правды. Именно поэтому они, чувствуя свою правоту, не
готовятся к войне, а наоборот посылают к Ольге сватов. В
противоположность
этому все действия восславляемой Нестором христианки Ольги вероломны,
лживы и
пронизаны местью. Опасаясь в открытую осуществить неправедную месть,
Ольга с
ханжеским почетом встречает сватов, а затем якобы задает им загадки,
которые те
якобы не разгадывают. И Ольга делает вид, что убивает их за это, то
есть
пытается представить свой вероломный акт как ритуальное убийство по
славянскому
закону тех, кто не выдержал испытания. Однако действия Ольги нельзя
назвать испытанием
с помощью космологических загадок. Это были не загадки и даже не
вопросы, а
двусмысленные высказывания Ольги, о двусмысленности которых знала
только она
сама. Последующая расправа над древлянами еще более вероломна и
полна
ложью. В действительности Ольга, делая благочестивый вид, одновременно
нарушает
и славянские, и православные законы и заповеди, разрушая при этом
гармонию
мироздания. И этим она извращает как славянскую, так и православную
религию.
Современные хулители и
защитники славян и славянской религии
вносят свой немалый вклад в извращение их образов. Политика двойных
стандартов
настолько вошла в их плоть и кровь, что они уже даже не замечают
насколько
тенденциозны и сомнительны их утверждения. Так, например, казнь Игоря,
которого
по некоторым свидетельствам привязали к наклоненным деревьям, а те,
выпрямившись,
разорвали его, объявляют ритуальным жертвоприношением язычников. А
полную
ритуальными действиями месть Ольги называют справедливым наказанием
язычников.
После христианизации Руси одной из перекодировок образа Перуна стал
образ Ильи
Пророка, который по своим свойствам и функциям очень близок к образу
Перуна. В
исследованиях называют Перуна богом или божком, которому язычники
славяне
поклоняются, приносят жертвы и посвящают идолов. В то же время Илья
Пророк просто
святой, которому молятся православные, прося зашиты и помощи, и
изображения,
которого не являются идолами. Хотя Илья Пророк больше похож на божка,
поскольку
является небожителем и находится рядом с Богом, в отличие от Перуна,
который
всецело принадлежит явленному миру.
Христианская
экспансия привела к тому, что
практически во всех христианизированных странах произошла деградация
религии,
философии, науки и других средств обеспечения бытия в процессах
восхождения,
прогресса, развития и роста. При этом значительно снизилось качество
бытия.
Фактически христианизация была деградационным и регрессивным
переворотом.
Деградация и регресс религии, теософских, философских, научных и
обыденных
знаний у всех народов после их насильственной христианизации
обусловлена не
только действиями священнических христианских структур. Взаимная
адаптация
концептуальных бытийно необходимых положений славянской религии и
соответствующих положений православия была осложнена тем, что и
славянская
религия, и жреческие структуры, и рядовые носители религии были не
подготовлены
для этого. В данном контексте мы в основном имеем ввиду жреческие
структуры и
религию западных славян, которые распространились в процессе миграции
от
поморского севера Руси до Киева и были ассимилированы местными
племенами.
Могущественные жреческие структуры, вероятно, полагали, что сочетание
мощности
древней славянской религии с силой их власти и влияния на все
социальные слои
славянских племен и народов делает невозможным социальный и
идеологический
переворот. Тем более не предполагали, что подобный переворот может быть
осуществлен
надолго и повсеместно. Эта позиция жреческой славянской структуры
привела к
нескольким негативным последствия.
Напомним, что из сопоставления
космогонических мифов, которые
положены в основу религии каждого народа, у многих исследователей
создалось впечатление,
что несколько тысяч лет тому назад существовал общий первичный
космогонический
миф, от которого каждый народ образовал свой собственный вариант мифа.
Возможно, что он действительно существовал не только задолго до
разделения
индоевропейских народов, но и до их появления. Возможно также, что
после
разделения народов, вариант исходного мифа у каждого народа по тем или
иным
причинам в разной степени деградировал, регрессировал и упрощался. Мы
приняли
решение на данном этапе размышлений не подвергать сомнению это мнение,
поскольку для его неоспоримого подтверждения или опровержения нет
необходимой и
достаточной совокупности оснований. Предлагаем исходить из того, что
это мнение
является одной из правдоподобных научной фикцией. Она конструктивно
настолько,
насколько позволяет нам выявлять, сопоставлять и оценивать общие
механизмы
деградации, регресса и извращения имеющихся у человечества знаний,
последствия
действий которых можно с очевидностью наблюдать в более или менее
достоверно
описанных и зафиксированных исторических процессах. В частности это
непосредственно
касается рассматриваемых нами последствий христианизации, а также
последствий
революционного переворота 1917 в России, последствий триумфального
шествия
научно технического прогресса и промышленной революции.
Мы полагаем, что стратегические
проколы предхристианской
славянской жреческой структуры до и после христианизации весьма
показательны и
есть резон их рассмотреть хотя бы вкратце. Славянский вариант древнего
космогонического мифа не только не развивался и не совершенствовался,
но плавно
деградировал и регрессировал, хотя и в меньшей степени, чем у
большинства других
индоевропейских народов. Властная верхушка жреческой структуры была
удовлетворена
той компонентой космогонической модели, на основании которой была
установлена
трех сословная организация общества и была уверена, что компонента и
сословная
организация незыблемы и вечны. Они полагали, что разделение на правящих
жрецов,
защищающих воинов и производящих материальные блага крестьян является
необходимой и достаточной социальной основой для организации процессов
поддержания гармонии мегакосма. Князья и вожди племен не являлись
отдельным
сословием, так как они либо сами были жрецами, либо их роль была чисто
номинальной. Жрецы не предчувствовали необходимость проведения
социальных
преобразований для обеспечения совместного развития и выживания
славянской
религии и бытия славян. Соответственно они не подготовили развивающих
обновлений и образов модели вероучения. Не задумались об обосновании
необходимости создания новых сословий. Проигнорировали стремление
князей и
вождей к повышению своего статуса и назревшую необходимость объединения
славянских племен и прекращения междоусобиц, а, следовательно, не
увидели
назревшую необходимость создания структуры и сословия исполнительных
чиновников. При том, что жреческая структура была очень развита и
доходила
практически до каждого члена общества, вероятно, недостаточно аккуратно
согласованные
уровни эзотерического камуфляжа вероучения и вульгаризированный
профанический
камуфляж отсекали от участия в развитии и совершенствовании модели
вероучения
не только почти всех членов воинского и крестьянского сословий, но даже
и
большую часть жреческого сословия.
Хотя следует признать, что даже
при всех недочетах запас прочности
славянской модели, жреческой структуры и общей религии рядовых членов
общества
оказался доставочным, чтобы довольно долго продолжать организацию
активного
сопротивления населения и адаптацию славянских знаний к православной
религии.
Но все-таки чего-то верховным жрецам не хватило не только для развития
вероучения и совершенствования религии в условиях православной
оккупации, но
даже для фиксации хотя бы на достигнутом уровне основных концептуальных
религиозных и научных знаний, для передачи отдаленным поколениям. Может
быть
для выявления, формулирования и решения перечисленных проблем у
человечества не
было необходимых знаний? Это не так. К этому времени у разных народов
было
накоплено достаточно знаний, а также положительного и отрицательного
опыта. Не
было доступа к этим знаниям? Мало вероятно, если учесть могущество и
стратегическое положение жреческих центров, количество деловых и
военных
контактов и так далее. Впрочем, не будем гадать чего и сколько не
хватало.
Удовлетворимся констатацией факта, что именно того и не хватало.
Придется выстраивать
предположительную картину состояния
космогонического мифа и вероучения славянской религии с учетом того,
что
исследователям не известно о существовании целостного описания
славянской
религии, что даже имеющиеся разрозненные осколки сведений не
систематизированы
и трудно доступны, что не производились комплексные исследования тех
источников,
в которых информация есть, но большей частью представлена в
закодированном и
даже искаженном состоянии. К тому же в разных славянских племенах были
свои
модификации религии. Так что термин "дохристианская славянская
религия" в какой-то степени является условностью. Сейчас можно только
предполагать, что достаточно полный комплекс знаний о славянской
дохристианской
религии мог быть зафиксирован в священных текстах, памятниках,
ритуалах,
обычаях, преданиях, а также в устном народном творчестве и бытовых
предметах
славян. Вероучение было зафиксировано одновременно на всех религиозных
слоях
бытия трех народов у варягов-русов на Руяне-Русе и у полабских славян,
а также
в русском поморье в основном в Новгороде и Пскове. Знания первых двух
народов
были уничтожены полностью вместе с устными, письменными и материальными
носителями знаний и вместе с самими народами. Так что здесь источников
информации практически нет никаких, кроме отчетов германских хронистов
о том,
сколько было уничтожено славянских славян и святилищ. В поморье
уничтожение
происходило в течении нескольких веков. Так что какую-то информацию
можно
извлечь только из разрозненных вторичных источников, археологических
находок,
памятников, а также из тех отголосков славянской религии и культуры,
которые
остались в живом языке, в фольклоре и в бытовых предметах.
Рассмотрим сначала была ли
славянская дохристианская религия
основана на Одно-Божии или многобожии. Мы предполагаем, что основой
религии был
один Единый Бог в качестве первопричины, первоисточника, первотворца.
Его
Божественный Мир в нашей терминологии обозначен как пракосм. С
точностью до
терминологии можно предположить, что в результате Божественных
порождений,
эманаций, излучений и информационного воздействия возникает
совокупность
первопроявлений, которую в праславянском и славянском варианте древнего
мифа
метафорически олицетворяют как вегето-зоо-антропоморфное Первосущество.
Оно
включает в себя все атрибутивные свойства и архетипы, которые
необходимы для
последующего порождения и сотворения всего сущего в явленном мире -
косное,
живое и людей. Метафорическое обозначение совокупности божественных
проявлений
как Первосущества было введено, для того чтобы на эмоционально образном
уровне
сделать наглядной идею имманентной целостности и взаимосвязанности
всего сущего
в явленном мире при предъявлении ее рядовым верующим и не достигшим
высокого
уровня посвящения жрецам. При этом антропоморфное олицетворение создает
образ
человека в качестве "меры всех вещей", являющегося в некотором смысле
аналогом Перовосущества и имеющего в себе эндомир, аналогичный миру
Первосущества. Такой образ представлялся как необходимый для усиления
чувства
причастности каждого человека ко всем процессам явленного мира и
повышения
ответственности за последствия своих действий и поступков.
Субъективация же в
нашей терминологии может означать, что Первосущество одновременно
определяется как
консубъект первичный глобальный наблюдатель явленного мира. Полагаем,
что серьезную
ошибку делают те исследователи, которые отождествляют Бога, Первобога и
Первосущество. Можно ли Первосущество как метафорический образ
совокупности
первопроявлений обозначать термином "Первобожество" зависит от
определения терминов "божество", "божественный" и
"божественность". От этого же зависит возможность или невозможность
именовать как божества Дажьбога, Перуна, Ладу, Мокошу, не возводя их
при этом в
ранг языческих богов и не уничижая до уровня божков, идолов и болванов.
Рассмотрим приведенные в
словаре Даля определения термина
"божество" и некоторых слов, которые входят в контекстную группу
термина. Даль зафиксировал три имеющих хождение в его время по сути
различных
определения. Божество - (1) божественность,
в значении сущности божеского естества, божественной истоты, сути;
олицетворенная сущность эта. Но, также (2) Бог, по понятиям каждого
народа, (3)
а потому и языческий бог или божок, идол, болван и всякий предмет
поклонения.
Определение (1) по нашему мнению предъявляет единственный
конструктивный и
грамматически правильный смысл, наиболее близкий к сути термина и
обозначаемого
им понятия. Определение (2) отображает бытовое смешение понятий,
вызванное
элементарной малограмотностью в вопросах религии и ее вероучения части
прихожан
и даже их пастырей. Определение же (3) является просто профанацией и
православным
контркамуфляжем, которые применялись по отношению к дохристианских
религиям.
Все свойства, приведенные в определении (1) как нельзя лучше отображают
основные по сути свойства метафорического образа Первосущества, не
отождествляя
его при этом ни с Богом, ни с Образом Бога. Если изъять из обращения
определения (2) и (3), то название Первобожество вполне подходило бы
для
метафорического обозначения совокупности первопроявлений. Однако же
невозможно
при каждом употреблении в текстах термина Первобожество давать такие
пространные пояснения. Поэтому лучше воздержаться от его употребления.
При этом за неимением
неизвращенного обозначения ключевых для
славянской религии персон Дажьбога, Перуна, Лады, Мокоши термин
"божества" возможно приемлем при условии, что в контексте не
создается двусмысленная профанация и уничижение. В нашей терминологии
эти
персоны являются ключевыми консубъектами высокого уровня явленного
мира, с
которыми человек взаимодействует как с могущественными партнерами. При
этом
следует учитывать смыслы слов из контекстной группы термина
"божество". Божественный -
свойственный Богу, исходящий от него; Ему подобный; высокий,
превосходный,
прекрасный, несравнимый, недостижимый. Божественность
- состоянье божественного; свойство, качество, сущность его,
происхождение из
божественного источника. Полагаем, что не следует изображать как
идолопоклонство обращение славян к Дажьбогу, Перуну, Ладе, Мокоше с
просьбами о
помощи в удовлетворении своих нужд и защите от кривды. Ведь обращается
же
христианин с просьбами о помощи и защите к Богоматери. Так же в
обыденном бытии
обращаются к близкому или могущественному человеку за помощью и
защитой. Не
воспринимали же русичи как проявление идолопоклонства употребление
распространенных до революционной советизации живого русского языка
слов из
контекстной группы терминов "божество", "божественный" и
"божественность": божать (бажать) -
желать, хотеть, сильно прихотливо просить; боженый
(баженый) -
жадобный, желанный, сердечный, милый; боженье
(баженье) -
милость, состраданье. Но зато хорошо различали негативный смысл обожания и
обожествления, как обоготворения, почитания
богом,
божеством, чествования как Бога, если это относилось к идолу или к
живому
человеку, кумиру. Полагаем, что внешнее представление о многобожии в
дохристианской славянской религии является следствием нескольких
взаимосвязанных причин. С одной стороны малограмотные смешения
славянских
понятий на бытовом уровне интерпретируются как истинная религия. С
другой
стороны истинные положения религии и вероучения славян подменяются
совокупностью профанаций, православного контркамуфляжа и сомнительных
калек с
христианских положений.
В этом контексте выглядят
сомнительными утверждения христианских
авторов и некоторых современных исследователей о различии Образа Бога в
славянской
и христианской религиях. Полагаем, что ложно представление о том, что
библейский Бог находится вне материального мира и творит его Словом, а
славянский явленный мир получается с помощью расчленения Первобога. Тот
факт,
что даже в камуфлированных, а иногда и извращенных, славянских
космогонических
текстах, дошедших до нашего времени, явленный мир "взят",
"зачался", "занимался", "стался", а не
"сотворен" и не "порожден", свидетельствует о том, что
неправомочно сопоставляются два разных космогонических этапа. В
библейских
текстах фактически говорится о двух космогонических этапах - о
первичном
Творении Словом за шесть дней архетипов и прообразов явленного мира и
всего
сущего в нем, включая Адама Кадмона, и о последующем перстном
сотворении. В
дошедших до христианских и современных авторов текстах говорится только
о
втором этапе - о метафорическом "расчленении" метафорического
Первосущества в последующем сотворении всего сущего в явленном мире.
Хотя
термин "расчленение" исследователи привнесли из индийского варианта
древнего мифа, в котором Первосущество действительно физически
расчленяется и
разбрасывается, а уж потом из отдельных частей появляются компоненты и
субъекты
явленного мира. В славянском же варианте нигде не говорится о подобной
процедуре
расчленения. Славянский явленный мир получается с помощью распределения
в
пространстве существенных свойств, эманаций и излучений Первосущества
(разбрасывание камней) с последующим образованием образов и
продуцированием
сущностей явленного мира (собирание камней). Здесь было бы необходимо
применять
какой-то другой термин. Учитывая, что сутью процесса является
распространение
свойств Первосущества сначала на будущий, а затем и на реализованный
явленный
мир, предлагаем вместо термина "расчленение
и разбрасывание" Первосущества использовать термин "распределение"
его свойств. В этом
контексте славянское Первосущество метафорически объединяет в себе всю
совокупность
проявлений всех архетипов и прообразов явленного мира и всего сущего в
нем,
включая Адама Кадмона.
В терминологии предложенной
нами модели интерпретация библейских
образов Творения и Сотворения может выглядеть следующим образом.
Результатом
первичного Творения Словом являются недоступные непосредственному
наблюдению
человека субкосм, субстанция и все сущее в нем. А результатом
последующего
сотворения является совокупность первопроявлений, первообразов и
прообразов в
медиакосме. Хотя, может быть, перстное Сотворение первочеловека Адама
из
земного праха следует интерпретировать как космогонический этап
непосредственно
в явленном мире. Хотя не понятно, зачем нужно овеществленное
присутствие
библейского Бога в явленном мире и как это отзовется на космогонической
модели
авраамических религий.
Анализируемые христианскими и
современными авторами славянские
сакральные тексты описывают тот отрезок космогонического процесса,
который
начинается уже после предъявления в медиакосме этой первосовокупности.
Вполне
вероятно, что знания о предшествующих этому этапах, которые
соответствуют двум
описанным в библии, не были предназначены для широкого распространения
и были
доступны только посвященным жрецам высокого уровня. Соответственно они
были
уничтожены вместе со жрецами, их народами и всеми имеющими к ним
отношение
описаниями и изображениями. Наличие этих знаний можно при желании
видеть ясно и
очевидно при сопоставлении даже того малого, что осталось от
славянского
варианта и восточных вариантов древнего космогонического мифа.
Можно довольно обосновано
предположить, что в славянском варианте
было меньше потерь, упрощений и искажений знаний из древнего мифа, чем
в
христианском варианте. Например, при том, что в христианском варианте
декларируется абсолютная инаковость и несовместимость на уровне
взаимодействия
космомира Бога и явленного мира, в действительности представления и о
Творении
Словом, и о перстном сотворении фактически вещественны. То есть
космомир Бога
практически непосредственно пересекается с явленным миром, а Бог творит
непосредственно в явленном мире. Похоже, что христианские теософы так и
не
осмыслили суть своего варианта космогонического мифа. По крайне мере
такое
впечатление создается из того, насколько невнятны и маловразумительны в
большинстве теософских и богословских текстов интерпретации этого
пересечения
миров, этапов первичного Творения и последующего Сотворения, Адама
Кадмона,
перстного Творения Адама и последующего создания Евы из ребра Адама и
так
далее. Кстати, создание Евы из ребра Адама фактически является
профанацией
образа Сотворения вследствие неаккуратности перевода древнего
библейского
текста. Эту и ряд других подобных ошибок исправляет Д.В.Щедровицкий в
своей
книге "Введение в ветхий завет. Пятикнижие Моисеево" (Москва, изд.
Теревинф, 2001 год). Он поясняет, что слово в иходном тексте Библиии,
которое переведено
как "ребро", в действительности имеет также значения
"грань", "ипостась". С некоторым упрощением картина
выглядит следующим образом. В процессе Сотворения от андрогинного Адама
была
взята некая совокупность свойств, которая и составила женскую суть Евы.
Соответственно у Адама осталась грань, которая составляет его мужскую
суть.
Более толковое и грамотное описание этой сути Сотворения Адама и Евы,
советуем
посмотреть в книге Д.В.Щедровицкого. Профанация же с ребром Адама
фактически
переводит все в вещественный план бытия явленного мира.
Полагаем, что в таком качестве
трактовки и интерпретации являются
сильной предпосылкой для появления пантеизма, а также материализма и
его антагониста
идеализма, противостояние которых разрывает космогонический образ в
клочья.
Причем это разрывание не имеет ничего общего с образом разбрасывания
камней и с
последующим их собиранием - это уничтожение, низведение в ничтожество.
В итоге
идеализм ушел в неконструктивную не имеющую практического приложения
абстракцию. Материализм стал ведущим средством для всех уровней
сознания и
низвел бытие до уровня вещного страдательного существования в
цивилизованном
мире. Ставшая декларативной, морализирующей и обличающей христианская
религия
обосновала и утвердила на духовном уровне уничиженное страдательное
вещное
существование во всех сферах человеческой деятельности. Не исключено
также, что
для потомков славян оставшаяся в глубине обыденного сознания часть
славянского
варианта космогонического мифа сыграла как положительную, так и
отрицательную
роль. С одной стороны она давала более близкую картину явленного
менталитету
славян, которые к тому же интуитивно чувствовали, что за ней стоит
более мощная
древняя религия предков. Это в обстановке глобального обезличивания
придавало
славянам сил для сохранения собственной самоидентичности и
индивидуальности. Но
с другой стороны с учетом уничтожения целостной древней религии и
отсутствия
тех, кто мог обеспечить передачу знаний в поколениях, современные люди
невольно
начинают отождествлять часть религии и вероучения со всей религией и
вероучением. И это оказывается губительным и разрушающим действием для
мировоззрения
каждого человека и народа в целом. В противном случае революционный
переворот
1917 года и последующие за ним процессы не могли бы произойти.
Мы полагаем есть больше
оснований подозревать в многобожии не
славянскую религию, а христианство, в котором грань между Творцом и
творением
совершенно размыта. Не случайно же внутри христианкой религии возник
пантеизм.
Получается, что христианская религия не только не равна, но по многим
определяющим признакам уступает славянской религии. Возможно, что это
было
одним из решающих аргументов при выборе киевскими князьями именно
православной
религии. Как ни странно, но именно овеществление Творения явилось одной
из
причин, благодаря которым истинные положения религии славян, которые
относились
к процессам в явленном мире, удалось подменить совокупностью
профанаций,
православного контркамуфляжа и сомнительных калек с христианских
положений.
Христианские миссионеры мыслили не теософскими космогоническими
образами
Творения, а опрощенными овеществленными образами перстного творения.
Это давало
им возможность совмещать библейские образы с представлениями обыденного
уровня
древней славянской религии, одновременно извращая и те и другие. Однако
это
давало им внутреннюю уверенность в истинности своих проповедей и
помогало
предъявлять наглядно свои утверждения верующим славянам, которые не
владели
цельными космогоническими образами и были лишены возможности узнать о
них. И
даже в этих обстоятельствах православным миссионерам потребовалось
несколько
столетий для извращения славянского мировоззрения. Дополнительным
негативным
обстоятельством является неразбериха, которая возникает при смешении
религии
западных славян с несовпадающими с ней религиями южных и восточных
славян, в
которых не было развитой жреческой структуры и которые длительное время
находились
под влиянием христианства.
Предлагаем рассмотреть
возможные наслоения наваждений, заблуждений
и неаккуратных толкований, которые возникают в большом количестве
вокруг
датируемого Х веком космогонического символа, найденного археологами в
ареале
расселения восточных славян, названного исследователями "Збручским
идолом"
и отождествляемого исследователями с западнославянским Триглавом. Уже
само
название "идол" предполагает дальнейшее неверное восприятие самого
символа и определение славян как идолопоклонников. Далее четыре
персоны,
изображенные в верхнем ярусе символа и одна в нижнем объявляются
вторичными
богами, богами или же божествами в качестве эвфемизма для богов. Тем
самым
утверждают, что в славянской религии было многобожие. Весь символ при
этом
объявляют изображением "бога богов" и именуют Святовитом. После всего
этого начинают строить домыслы о наличии в древней славянской религии
одновременно
Единого Бога и многобожия. При этом не задумываются о сути имени
Триглав. И
хотя, вероятно, правильно применяют его ко всему символу, но
одновременно
называют изображение четырех персон в верхнем ярусе с четырьмя головами
Триглава. Соответственно найденное в городе Волине, находящемся в
ареале
расселения западных славян, деревянное изображение космогонического
символа IХ
века, на котором отображен только
верхний ярус называют четырехглавым божеством. К тому же отождествляют
символ,
явно относящийся к макрокосму, одновременно и с образом Бога и с
образом всего
мегакосма. Их не смущает даже то, что отмеченный ими же фалический
облик,
присутствующий а изображениях символов, в различных вариантах древнего
мифа
относился к явленному миру, но не к Богу. Но при этом умудряются
идентифицировать
верхний ярус как небесный, средний - как земной, а нижний - как
подземный. В
итоге получается "в огороде бузина, а в Киеве дядька", "сапоги
всмятку" или нечто еще более непотребное.
Начнем с того, что истинное Имя
Бога во всех вариантах
космогонического мифа была строго табуировано и не могло быть
предъявлено в
обыденном слое бытия. Поэтому, прежде чем приписывать Ему личные имена
Велес,
Сварог, Триглав, Святовит и так далее, нужно очень хорошо подумать,
если уж не
из опасения ненароком нарушить гармонию мегакосма или из уважения к
предмету
исследования, то хотя бы из самоуважения и желания сохранить научную
чистоту
своего исследования. Святовит, как объясняют сами исследователи,
этимологически
может означать святой свет, излучение, эманация, а также дыхание Бога,
дух
Божий или все вместе взятое. Бога. Святовит является метафорическим
олицетворением Святого Дыхания и/или Святого Света. При том, что его
роль
демиургическая, к тому же в процессе бытия он пронизывает весь явленный
мир и
все сущее в нем, а человек еще одухотворяется и озаряется ими изнутри,
его, те
не менее, не следует путать со Святым Духом как ипостасью. В этом
контексте
представляет интерес описание Гильфердингом жреческого ритуала на
Руяне-Русе:
"Накануне великого дня богослужения жрец Святовитов вошед во внутреннее
святилище храма, куда один имел доступ, мел его веником до чиста:
причем
остерегался дохнуть: всякий раз, чтобы дохнуть, выбегал он за двери,
дабы
присутствие бога не осквернялось дыханием смертного". Из этой цитаты
можно
извлечь следующие соображения. Во-первых, культ служения Святовиту был
частью
служения Богу. Во-вторых, это был культ высокого уровня эзотеричности.
В-третьих, жрец Святовитов, в функцию которого входила часть ритуала
поддержания
вселенской гармонии, опасался смешивать в особой ритуальной камере
демиургическое
Дыхание и Свет Бога со своим дыханием, дабы не внести случайных
возмущений в
ритульный процесс. Присутствие бога здесь не причем, поскольку Святовит
не
является богом. Тем боле не причем присутствие Бога. К тому же
богоподобный
человек, тем более находящийся на высокой ступени восхождения к подобию
Его
Образу, не может осквернить ни Бога, ни Святовита, олицетворяющего Свет
и
Дыхание Бога. Вот так и появляются ложные интерпретации, которые
порождают
наваждения, заблуждения и извращения. Аналогично Дажьбог (Солнце) и
Стрибог
(Ветер) являются не богами, а метафорическими олицетворениями в
явленном мире
соответственно вторичных после Святовита божественных света и дыхания.
Вероятно, допустимо соотнесение
имени Триглав при метафорическом
олицетворении триединого, изображенного на збручском символе в виде
трех ярусов.
При этом от интерпретации сути каждого уровня зависит с каким миром он
будет
соотнесен. Пожалуй, можно согласиться с предположением, что верхнем
ярусе
изображены персоны, олицетворяющие планеты - Солнце, Луна и Венера. При
этом
Венера изображена в двух своих качествах - утреннего и вечернего
светила,
утренней и вечерней зарницы. Венера изображена в верхнем ярусе символа,
да еще
в дух лицах, не только потому, что она третье по яркости светило на
земном
небосводе, которое можно видеть и перед восходом Солнца на утренней
заре, и
днем, и после захода Солнца на вечерней заре. Соответственно ее
называют
утренницей, денницой и вчерницей. Ее бывает видно как темную точку даже
на фоне
Солнца, а во время солнечного затмения она может находиться около края
Солнца
или пересекать его. За это ее еще в древности называли проходницей,
переходницей,
проходней, преходней. Такое количество названий для одной планеты
свидетельствует о том, что о ней много знали, что за ней постоянно
наблюдали не
только влюбленные, что она была важна для практических земных дел в
каждом
обозначенном собственным названием качестве. Соответственно
предполагают, что
Венере дано два имени для двух олицетворений - Мокошь (Макошь) и Лада.
А после
христианизации Руси ее перекодировали в "бабью святую" Параскеву
Пятницу и даже перенесли ее черты на второе лицо в христианском
пантеоне -
Богородицу. К тому же еще в дохристианские времена Пятница почиталась
как
хозяйка ветров, знание о которых было весьма важно для славян ходивших
в
дальние плаванья у же в самые древние времена. Не менее важны для
практических
земных дел Солнце и Луна, поэтому при олицетворении им дали
соответственно
имена - Дажьбог и Перун. Так что в целом верхний ярус имеет прямое
отношение к
земным делам, а расширительно - к процессам явленного мира. На среднем
ярусе
представлены изображения двух мужчин и двух женщин, которые, взявшись
за руки
образуют круг (коло). Этот ярус тем более относится к земным делам и
явленному
миру. Остается выяснить к какому миру принадлежит изображенное на
третьем ярусе
существо, поддерживающее своими руками землю. Полагаем, здесь изображен
не
подземный мир, как предполагают некоторые исследователи, а медиакосм и
Первосущество. Ведь по славянской религии Первосущество не
расчленяется, а
явленный мир, который "взят", "зачался",
"занимался", "стался", получается путем собирания свойств,
эманаций, излучений различных его проявлений в процессе образования
образов и
продуцирования явлений. Получается, что збручский символ отображает
совокупность главных субъектов макрокосма, пять из которых являются
консубъектами. То есть он не имеет отношения ни к субкосму, ни к
пракосму.
Соответственно здесь не может идти речи ни о каком изображении Бога или
"бога богов".
В сфере обыденного бытия Бог и
его пракосм не доступны, а субкосм
почти не доступен для описания, поскольку в этом слое неэзотерического
языка
нет необходимых для этого слов. В таблице
7-1 мы показали три условные группы терминов, которые могут служить
для
обозначения трех систем координат. Первая строка предназначена для
обозначения
линейных земных величин и продолжительности времени. Вторая строка
предназначена для обозначения координат непосредственного микрокосма
человека в
сочетании с его эндокосмом. Третья строка предназначена для обозначения
координат напрямую воочию не наблюдаемого человеком макрокосма, включая
медиакосм. Искусственная компоновка терминов в строки произведена по их
созвучию, для того чтобы проиллюстрировать возможную иерархию понятий.
В
действительности такого понятийно терминологического аппарата нет,
поскольку
при отсутствии в мировоззрении иерархической структуры миров мегакосма
ему
нечего обслуживать. Первые две строчки перемешались между собой и
термины
используются случайным образом. Например, во фразе "Высота, высота
поднебесная, Глубина, глубина океан моря " речь идет о, в принципе,
доступном для наблюдения микрокосме. Если бы смысл фразы и терминов
устанавливался
в соответствии с иерархией миров, то в соответствии с иерархией в нашей
условной таблице мы бы использовали только первую строку и фраза
выглядела бы
несколько иначе - "Вышина, вышина поднебесная, Глубина, глубина океан
моря
…". В другой системе координат при этом, используя вторую
строку, можно
было бы построить другую фразу - "Высота небесная, Глубота сердечная
". Но в практике современного русского языка так не говорят. Слова,
производные от первых двух строк, также иерархически не
дифференцированы, а
третья строка практически не имеет обыденных производных слов.
Соответственно
збручский символ на современном русском языке невозможно описать
очевидно,
вразумительно, грамотно и одновременно адекватно тому, что он должен
отображать.
При том, что этот
космогонический символ относится только к
явленному миру, у него несколько уровней кодировки. Одним из уровней
кодировки
является группа персон в верхнем ярусе, которые олицетворяют важнейшие
для
земной практики светила. Персонифицированное изображение планет на
збручском
символе является свидетельством того, что славянские жрецы понимали
практическую ценность наблюдения этих планет и использование
результатов наблюдения
в различных сферах бытия. А само это понимание предполагает наличие
обширных астрономических
знаний, которые накоплены, зафиксированы и проанализированы на
протяжении
многих веков, а также наличие космогонической модели, которая также
строится не
в один день. Существует довольно много свидетельств того, что такие
знания и
модель появились задолго до образования индоевропейской общности, а тем
более задолго
до ее распада на отдельные народы.
М.Л.Серяков в своей штудии
"Голубиная
книга" - священное сказание русского народа" (стр. 232) приводит
интересные сведения об археологических находках. "До недавнего времени
почти всеми специалистами предполагалось, что возникновение астрономии
произошло лишь после становления древнейших государств и что регулярные
наблюдения за небом человек каменного века вести в принципе не мог.
Достижения
палеоастрономии за последнее столетие продемонстрировали полную
несостоятельность этого псевдонаучного предрассудка. Наиболее известным
примером является британский Стоунхендж, возведенный в II тысячелетии до н.э., задолго
до
возникновения на острове какой-либо государственности. Однако и на
территории
нашей страны были обнаружены хоть и не столь масштабные, но зато более
древние
свидетельства высокого уровня развития астрономических знаний древнего
человека.
В ходе изучения неолитической стоянки на берегу Бологовского озера было
обнаружено два камня, на одном из которых было выбито изображение
созвездия
Большой Медведицы, а на другом - созвездия Плеяд. (Святский Д.О.) Еще
больший
интерес представляет находка, сделанная при раскопках сибирского
верхнепалеолитического памятника Мальта, расположенного в долине реки
Ангары. В
захоронении каменного века там было положена пластинка, являющаяся, как
было
установлено в ходе нанесенных на нее символов, уникальным календарем,
учитывающим перемещение по небу не только Солнца и Луны, но также и
Венеры,
Марса, Сатурна, Юпитера и Меркурия. Анализ заключенных в нем
соответствий
позволил определить, что ключевым для создателей мальтинской культуры
являлся
отрезок в 486 лет, установление которого требовало тысячелетних
астрономических
наблюдений в предшествующий период. Возраст этого календаря из Мальты -
более
24 тысяч лет. (Ларичев В.Е.). Эта находка убедительно доказывает
наличие весьма
развитых астрономических представлений в период даже предшествующий
индоевропейской
общности, равно как и принципиальную возможность древнего человека
наблюдать,
осмыслять и фиксировать разнообразные небесные явления".
Так что весьма правдоподобно
выглядит предположение о создании
много тысяч лет тому назад древнего исходного мифа, который наиболее
адекватно
описывал возникновение, устройство и истинную природу мегакосма,
явленного мира
и всего сущего в нем. Не менее правдоподобно выглядит предположение,
что по
мере передачи между народами и поколениями многие знания и
космогонические
положения в различных вариациях мифа терялись, упрощались и даже
извращались.
Для подтверждения этого предположения достаточно системно сопоставить
вариации
различного времени и разных народов. Конкретной иллюстрацией этого мог
бы быть
непредвзятый анализ деградации и регресса знаний, космогонической
модели и
культур в процессе насильственной христианизации и последующей
агрессивной
экспансии коммунистической псевдо религии. Во-первых, на первом этапе
утрачен
большой являющийся общемировой ценностью пласт знаний и культуры
уничтоженных
варягов-русов и полабских славян. Во-вторых, на протяжении нескольких
веков
христианские миссионеры последовательно частично уничтожили, а частично
извратили религию и культуру подчиненных народов, а те в свою очередь
извратили
догматы и толкования христианской религии. В итоге с одной стороны
каждый народ
и все народы вместе получили регресс, деградацию и замедление роста или
даже
отмирание некоторых компонент религий и культур. С другой стороны
некоторые
компоненты славянской и православной религий и культур сплавились до
такой
степени, что теперь их невозможно разделить. При этом градации
полученных
сплавов, если их использовать в качестве средств обеспечения бытия,
лежат в
диапазоне от извращенных и приносящих вред до конструктивных и могущих
приносить пользу. Возможно, что некоторые компоненты славянской и
православной
религий и культур не претерпели серьезных изменений либо потому что их
участие
во взаимодействиях было незначительно, либо потому что они были
настолько
глубинно значимы для самоидентификации субъектов, что каждый сохранял
их в
глубине своего сердца и не подпускал к ним никого и ничто.
Совокупность этих разнообразных
компонент не могла быть собрана в
комплексную конструктивную систему средств обеспечения бытия. Поэтому
на каждом
этапе каждый субъект фактически использовал эту странную совокупность
для
создания и обретения собственной более или менее эклектичной системы
средств,
которая как правило плохо стыковалась с системами средств других
субъектов. В
совокупности эти обстоятельства затрудняли создание совместной цельной
системы
средств для обеспечения безопасного совместного бытия. Хотя все и
каждый
субъект интуитивно и инстинктивно испытывали нужду в такой цельной
системе и
стремились к ее созданию и обретению. Только на таком фоне и могла
появиться
прелестная революционная концепция большевиков, которая соблазняла
видимостью
цельности, очевидности и справедливости, к которой стремилась душа
измученных
уничиженным страдательным существованием людей. Именно эта прелесть и
завела
народы России в болото смуты, которое сделало возможной реализацию
очередной
агрессивной экспансии - на этот раз экспансии марксистско-ленинской
псевдо
религии. Во что это вылилось известно всем.
Стремление к справедливости и
достойному бытию вместо недостойного
человека существования в наше время не стало меньше, а состояние
средств
обеспечения бытия не стало лучше. И опять на этом фоне расцветают
многочисленные прелести, с помощью которых соблазняют либо куда-то
вернуться,
либо куда-то свернуть, либо к чему-то присоединиться. Уже давно нет ни
древней
славянской религии, ни православия, ни их эклектичного гибрида.
Католическо-материалистическое вещное мировоззрение расслоено и может
обеспечить только "цивилизованное" овеществленное страдательное
существование
с более или менее высоким уровнем материальных благ, но с низким
качеством
бытия. Ислам также переживает кризис расслоения. Восточные религии
застряли в
архаичной абстрактности. Попытка механически собрать мировоззренческую
систему
из осколков прошлых религий, даже если они выглядят как конструктивные
и не
очень извращенные, ни к чему хорошему не приведет. Попытка собрать
мировоззренческую систему из компонент различных религий и псевдо
религий приведет
к созданию очередной эклектичной прелести. Не улучшат бытие и поиски
ответов на
вопросы: Кто виноват и что делать? Лучше уж попытаться определить, как
быть
здесь и сейчас каждому индивидуально и всем вместе. Ну и как же быть?
В идеале, прежде всего,
необходимо разрешить системный кризис, который
наблюдается во всех без исключения цивилизованных религиях и науках.
Для начала
неплохо бы теософам и философам, богословам и ученым избавиться от
своей
непомерной гордыни, признать, что все учения взаимодополнительны, и
начать
согласование базовой космогонической модели мегакосма и мегабытия. Для
этого
бытийно необходимо избавиться от образа внешнего врага, необходимо
перестать
очернять учения других, память предков и друг друга, необходимо
прекратить
агрессивную экспансию мировоззрений и идеологий, заменив ее на
партнерское
сотрудничество. Пора прекратить создавать и использовать в практической
деятельности прелестнословные абстрактные обезличенные характеристики
людей,
наций народов и стран. Пора прекратить соблазнять людей прелестями
земного или небесного
рая, прелестями овеществленной цивилизации, прелестями мессианской
избранности.
Полагаем, что это наваждения, от которых каждому человеку и
человечеству
необходимо избавляться, совершая свой нравственный выбор.
Итак, у нас возникла очередная
проблема выбора. Можно ли говорить
о россиянине или русиче как об абстрактном обобщенном субъекте? Нужно
ли разрабатывать
абстрактные характеристики абстрактного человека с лицом определенной
или не
очень определенной национальности? Нужно ли разрабатывать прогнозы
развития
абстрактного россиянина или русича? Нравственно ли это? Нравственно ли,
используя образ своеобразия россиянина или русича, манить его
мессианской идеей
или спекулировать идеей избранности и жертвенности ради блага всего
человечества?
Чем оканчиваются идеи сильной
личности или сильного государства,
идеи спасения или облагодетельствования человечества, создания земного
рая или
построение светлого будущего мы уже знаем - проходили в школе
собственного
бытия. Что такое борьба идей и отстаивание своих интересов человечество
до сих
пор проходит в школе практического бытия. Различные прелестнословы еще
продолжают звать на борьбу со злом в широком диапазоне вариантов - от
борьбы с
коррупцией, терроризмом и диктаторскими режимами до невидимой брани с
силами
зла и с их приспешниками. Выбирать придется каждому, причем, выбирать
индивидуально, а воплощать - и самостоятельно, и всем вместе.
А чем плоха мысль о том, что
национальная идея должна выражать не
то, что нация хочет для себя, а то, чем она хочет стать для мира - что
истинная
национальная идея предполагает мысль обо всем человечестве и его благе?
Не
правда ли - здесь слышится что-то знакомое? Тем и плоха, что это мы уже
тоже проходили
в разных вариантах и знакомы с плачевными последствиями. Ничто не ново
под
луной. Индивиды и консубъекты ХХ века попробовали в очередной раз на
своем
бытии все мыслимые и немыслимы варианты, которые человечество или уже
когда-то
реализовало, или только мыслило, или могло бы мыслить. Стали люди,
страны и человечество
умнее, мудрее, опытнее? Как знать, может быть, какой-то конструктивный
опыт и
был приобретен, но, тем не менее, на рубеже третьего тысячелетия все
человечество и каждый человек, похоже, опять стоят в растерянности на
распутье
перед теми же проблемами выбора. И по-прежнему в чьих-то
прелестнословных
призывах слышен зов трубы, которая куда-то зовет. Не слушайте Вы этот
зов
трубы. Пусть себе трубит - собака лает, а караван идет.
Может быть, пора каждому
человеку, каждому консубъекту, включая
нации, народы, государства и церкви, в самом деле, осмыслить и
попробовать реализовать
в собственном и совместном бытии технологию сомнения и становления,
текущей
смерти и текущего переопределения, выхода из дурного цикла нежизни и
несмерти.
Мы уже рассматривали эти понятия в нескольких разделах предыдущих глав,
но, тем
не менее, давайте еще немного поразмышляем о них. Для того чтобы миг
времени
какого-либо процесса завершился, в конце этого мига необходимо получить
завершенное состояние изменяемого предмета (набора свойств) - в конце
мига
стоит состояние текущей завершенности. В этом состоянии переопределять
и
переопределяться невозможно. Нужно вывести каким-то образом предмет
изменения
из устойчивого состояния текущей завершенности, а иначе никакое
становление или
развитие не возможно. Следовательно, мгновение смерти и одновременного
возрождения технологически необходимо для того, чтобы "обнулить"
значение состояния и тут же возродиться (воспроизвестись) в новом
качестве
готовности для переопределения и последующего нового мига становления.
При этом
отсутствует продолжительность в видимом и осознаваемом человеком
времени.
Не так ли и в интеллектуальных,
духовных и душевных поступках и
процессах прежде, чем начать новый отрезок переопределения и
становления человеку,
стране, человечеству необходимо пережить мгновения текущей
смерти-возрождения.
Может быть, каждому субъекту бытия следует сделать для себя это
мгновение более
наблюдаемым и осознанным. Не случайно же в некоторых культах,
принадлежность к
которым означала полный отказ от мирской жизни и посвящение всего себя
служению, ритуал приема в члены общины заключался в отпевании неофита.
Это был
момент полного переопределения человека - он как бы умирал для всех
отношений,
которые не относились к деятельности общины, и возрождался для другой
жизни и
миссии. Возможно, что через последовательность внепредельных и
вневременных
(относительно локальных координат непосредственно наблюдаемого
явленного мира)
мгновений смерти-возрождения с последующим переопределением и
становлением
происходит моделирование в микро масштабах бесконечности и вечности.
Те, кто
пережили клиническую смерть или реально стояли на грани смерти,
отмечают, что
после этого они видят мир и бытие в себе и вокруг в ином свете. Они с
очевидностью осознают некую тайну, которая уже была в них, но которую в
суете
обыденных забот и кажущейся непрерывности движения они как-то
умудрились не
заметить. Многие после этого переопределяют свое отношение к бытию,
начинают
смотреть на мир глазами новорожденного, меняют ранги значимости своих
ориентиров
и критериев оценки и начинают новую жизнь. Может быть, есть резон в
том, чтобы
научиться создавать мгновения текущей (промежуточной)
смерти-возрождения
осознано и как можно чаще.
В противном случае есть риск не
заметить, что в конце прошедшего
отрезка бытия, на котором было необходимо переопределиться, а субъект
оказался
к этому не готов. В результате он может оказаться в дурном кольце
нежизни-несмерти, когда субъект возродился в состоянии готовности к
переопределению, но не совершил его и возвратился из-за этого к тому же
текущему мгновению - промежуточная смерть, возрождение для
переопределения,
опять неготовность к переопределению и так до бесконечности. Мы
полагаем, что
именно конструктивное и эффективное сочетание завершенности в конце
каждого
отрезка становления и постоянной незавершенности на всем протяжении
бытия
делает бытие возможным и осмысленным. Не исключено, что консубъекты
Россия и
Русь в данный момент оказались именно в этом патологическом процессе
из-за
того, что каждый человек в качестве его родителя оказался не готов к
качественному переопределению. Надо бы разобраться с мессианством и
миссиями, с
ориентирами и критериями, а также с готовностью быть, не ожидая помощи
или
подачек со стороны, с национальной идеей, с миссией и мессианством и
так далее.
Мы не против того, что надо
принимать и оказывать помощь, что не
зазорно подать милостыню страждущему или принять ее, оказавшись в
крайней нужде,
что благородно оказать милость падшим или принять ее, когда оступился,
что
необходимо защитить жертву от насильника и призвать защитника, когда
злые силы
одолевают. Отнюдь нет. Речь ведь идет не об этом. Выбор состоит в том,
собираемся ли мы каждый в отдельности и все вместе решать проблемы за
других
или же выберем партнерское сотрудничество? Причем, это не проблемы
материальной, экономической, хозяйственной помощи или защиты с мечом в
руках.
Это проблемы самоопределения, самореализации и саморазвития человека во
всей
полноте его триединого Азъ, объединяющего СверЯ, субЯ и Я, его
триединой
личности, объединяющей дух, душу и интеллект, а также не только
воплощенных в
явленный мир средств индивидуальной духовности, душевности и
интеллектуальности,
но и средств его организма. Нравственный выбор производится всей этой
совокупностью
средств и во всех мирах мегакосма в соответствии с внутренним
вселенским
законом, который присутствует в каждом.
У каждого человека и у каждого
народа есть врожденное
представление о том, что значит жить и взаимодействовать правильно - по
закону,
по совести, по справедливости, по правде. Это представление является
отображением вселенского закона правильности. Каждое мировоззренческое
учение
по-своему описывает этот закон, а каждый человек по-своему его
представляет и
реализует в своем бытии. В дохристианском славянском вероучении понятие
"рота" отображала космогонический закон правильности мегакосма и
бытия всего сущего в нем. В явленный мир рота отображается как
совокупность
нескольких граней - закон
правильности, договор между
Всевышним и человеком о поддержании и соблюдении закона правильного
бытия, о миссии человека и его служении
во благо мирозданию, себе и
другим, это и даваемая человеком присяга
и взятые на себя обязательства, это
и представления о правах и ответственности,
о правде, справедливости,
об естине, истине и естественности.
В общем, рота отображается в явленный мир как естественная конституция
правильного состояния и правильного бытия.
Не надо путать собственную
Миссию и Миссию своего народа с
мессианством, а индивидуальное и совместное восхождение с
облагораживанием личности
или нравов других. Мы считаем, что Миссия и Харизма для ее
осуществления - это
дар Всевышнего человеку, а миссия и харизма народа - это дар человека
народу.
При этом возможность и способность человека делать этот дар
определяется его
правом и ответственностью на свободу воли, на восхождение к абсолютному
образу
и подобию, на добровольное обязательство быть сотворцом и мерой всего
сущего.
Это право и ответственность не предполагает насилия даже с
"благородными"
намерениями. Не предполагает также облагораживания и оправдания
"благими" целями неблагих средств - этого не может быть, так как
неблагие
средства извратят цели, даже если в начале цели были благими. Это право
и
ответственность предполагает гармоничную симфонию в процессе
восхождения к
образу и подобию при взаимодополнительном исполнении каждым своих
партий и
ролей, то есть выполнения своих индивидуальных миссий и функций. В
дохристианских славянских обычаях было принято в важных для бытия
взаимодействиях
подтверждать свою готовность соблюдать роту, призывая в свидетели
гарантов
действия и соблюдения роты. Для этого приходили в места посвященные
гаранту,
например, Перуну и оговаривали условия взаимодействия и возможные
последствия
при их незримом присутствии.
Трудно не согласиться с этими
утверждениями. Никто вроде бы не
собирается и не будет спорить, что нравственный выбор производится
между добром
и злом, между добрыми благими и злыми неблагими средствами и целями,
между
духовностью, бездуховностью и злодуховностью. И естественно каждый
признает
необходимость выбирать для себя, а тем более для других, добро,
духовность и
благие средства. Даже те, кто зовет в союзники силы зла, или выбирает
из двух
зол меньшее считает, что он сделал выбор в пользу добра блага и все
делает ради
добра и блага. Более того, зачастую субъекты считают, что этот выбор
уже сделан
ими или за них уже давно, раз и навсегда, а, ежели, придется, не дай
Бог,
делать когда-нибудь в лихую годину, то уж они непременно подтвердят
правильный
выбор. Как бы и говорить и думать больше не о чем - якобы все яснее
ясного. Вот
и убеждают себя и других, что определение и реализация нравственного
личностного выбора не актуальна. Какие, говорят, еще проблемы
нравственного
личностного выбора - никаких проблем. С этим мы как бы давно уже
разобрались, а
сейчас нужно решать простые обыденные задачи, которые к проблемам
нравственного
выбора уже не имеют никакого отношения. Но на самом деле это не так.
Проблемы
нравственного выбора решаются в каждое текущее мгновение
индивидуального и
совместного бытия. И не только на календарно исторически длительных
мгновениях
идеально концептуального или стратегического уровня, но и на
сиюминутных и
сиюсекундных мгновениях оперативного и процедурного уровней. И не
только в
высоких сферах триединого Азъ и триединой личности, не только в
судьбоносных
духовных поступках и деяниях, но также и в обыденных бытовых поступках
и
действиях. Нравственный личностный выбор - это вся совокупность высоких
и
обыденных, глобальных и локальных выборов.
И вот уже готова резонерская
сентенция: Ради высоких идеалов
против зла, да на миру, каждый готов делать свой нравственный выбор. А
надо бы
- ежесекундно, по отношению к своим соблазнам, слабостям и вредным
привычкам. И
сразу же всплывают внедренные тысячелетиями образы героя и врага, вовне
и в
себе, противоборство, борьба и преодоление. Как легко эти слова
произносятся и
как трудно обойтись без них даже в бытовых высказываниях. А уж если
речь
заходит о высоком нравственном выборе - без них якобы никак нельзя
обойтись.
(Кстати, а бывает ли "низкий" и не нравственный выбор?) Если бы это
были только речевые обороты. Так ведь все нравственно готовы бороться
со злом и
врагами, преодолевать трудности и соблазны, противостоять. Вот уже и
сделан
нравственный выбор. Многие готовы
ради принципов пойти на костер. Однако при этом забывают, что
готовность пойти
на костер неотделима от готовности послать другого на этот же костер.
Люди хотят побеждать и
выигрывать, они радуются своим победам и
гордятся ими, они огорчаются, потерпев поражения, и стыдятся их,
чествуют победителей
и порицают или жалеют побежденных. Во всем этом, таком привычном и
обыденно
распространенном, есть что-то неправильное. Один умный человек
утверждал:
"Иногда, когда терпишь поражение, то выигрываешь. Однако когда
побеждаешь
- всегда проигрываешь". Красиво и до чего же умно. Если только не
обращать
внимание на то, что победа и выигрыш, поражение и проигрыш близнецы -
родные
дети войны, в которой теряют все. Вот вам и опять выбор. Хорошо,
говорят, сделаем
выбор - откажемся от борьбы, будем соревноваться. А зачем? Чтобы
гордиться,
чувствовать свое превосходство над другими? Кстати, выбор одного
обязательно ли
означает отказ от другого? Ну, достали - может сказать читатель -
давайте жить
проще. Да уж чего проще - это просто моменты нравственного личностного
выбора в
обыденном бытие. Говорят, что работа, труд, напряжение, затраты и
отдача,
преодоление и борьба, накал переживаний, адреналин в крови, гордость за
себя и
за своих - вот это жизнь. А вы о нравственном выборе. Если не ради
победы в
борьбе и не ради выигрыша в соревновании, говорят они, то ради чего
жить? Ну,
вот те, кто так говорит, и сделали выбор - причем, нравственный.
Может быть, правильно было бы
творить и созидать не для того, чтобы
гордиться или даже прославлять себя или свой народ, а прославлять себя
и свой
народ тем, что свободно без принуждения и самопринуждения сотворяешь. А
слава и
прославление - это не гордость? Смотря как определим. Прославление и
гордость
будут несовместимы, если мы не используем для определения понятия
гордость
такие понятия, как уважение, восхищение, похвалу как признание
достоинств и
воздаяние должного, чувство удовлетворения от хорошо выполненного
полезного
дела. Однако в словаре Ожегова гордость определена как чувство
собственного
достоинства, самоуважения, чувство удовлетворения от чего-нибудь. Вот и
стало
чувство превосходства над другими синонимом всех слов, входящих в
определение
понятия, а заодно присоседилось к славе и прославлению. А еще Горький в
свое
время утверждал, что человек - это звучит гордо.
Так и сделали за человека
нравственный выбор. А человек не
возражал, просто потому, что не задумывался о том, что словарь, которым
он
пользуется, является результатом и средством нравственного выбора и
самоопределения каждого человека и народа. Не используя свое право на
выбор или
отказываясь от выбора, человек тем самым делает свой очередной
нравственный
выбор. Всегда, а тем более при выборе языка, на котором человек
говорит,
слушает и думает, он делает свой нравственный выбор. Извращая свой
родной язык
или позволяя другим его извращать, человек извращает себя, свою
триединую
личность, свое триединое Азъ. Это зло и вред. Отчуждение человека от
его
родного языка, по нашему мнению, является тяжким грехом и особо опасным
преступлением против человека, народа и человечества.
Значит ли это, что срочно всем
и каждому надо подняться на борьбу
за чистоту великого живого русского языка? Ведь именно через язык
предопределяется кто и как есть, кем и как быть, а заодно именно он
показывает
и обеспечивает самость, индивидуальность, особость и инаковость русичей
и
россиян, независимо от национальности. Ведь именно с помощью языка и
словаря описывается
правильное и неправильное бытие, взаимодействия и поступки, даются
оценки и определяются
последствия. И от состояния языка и словаря зависит способность и
возможность
человека, общностей и человечества реализовать свою миссию и
реализоваться в
качестве полноценных субъектов бытия. Полагаем, что даже ради чистоты
языка и правильности
словаря не должно всем миром и каждому особо подниматься на борьбу.
Защищать,
блюсти и развивать и развивать чистоту языка следует каждому в себе и
друг с
другом во взаимодействиях.
Ранее мы предположили, что у
каждого человека и у каждого народа
есть свое врожденное основанное на вселенском законе правильности
представление
о том, что значит быть и взаимодействовать правильно, то есть по
закону, по
совести, по справедливости, по правде. Казалось бы этого представления
вполне
достаточно для оценки правильности или неправильности всего без
описания и
согласования правил и критериев оценки. Следовательно, для правильного
индивидуального
и совместного бытия как бы и не нужны ни язык, ни словарь, ни писанные
правила.
Полагаем, что это не так. Рота как вселенский закон правильности имеет
свой сакральный
язык и словарь. При отображении роты должны быть отображены и словарь и
язык.
Адекватное правильное отображение способствует укреплению и развитию и
роты и
устройства мироздания, и словаря, и языка, а неадекватное или
извращенное отображение
ослабляет их. К тому же рота и язык воспроизводятся и восстанавливаются
при
правильном описании и правильном соблюдении в обыденном бытии
отображений закона правильности, договоров,
описаний миссий человека и сообщества, функций и
сути служении во благо миру, себе и
другим, даваемой человеком присяги и
взятых на себя обязательств, а также
утверждений о правах и ответственности, о
правде, справедливости,
об естине, истине и естественности.
При неадекватном или извращенном описании и соблюдение рота и язык не
воспроизводятся и не восстанавливаются или воспроизводятся в
извращенном виде,
а устройство мироздания нарушается. В космологическом мифе славянской
религии
была принята система олицетворений. Святовит определялся в качестве
олицетворения первичного божественного излучения и дыхания.
Первосущество - как
олицетворение первоосновы явленного мира, его закона и его бытия.
Распространение его свойств, а не расчленение его на части, с
последующим
образованием образов и продуцированием явлений без расчленения и
уничтожения
рассматривалась как суть непрерывного Сотворения явленного мира.
Сварог, Велес
(Волес), Дажьбог, Перун, Макошь, Лада воспринимались славянами как
метафорические олицетворения функциональных граней Триглава, то есть
таких
специфических совокупностей свойств и функций, как поддержание, надзор
за
сохранением гармонии, порядка в мироздании (явленного мира),
свидетельство и
гарантия соблюдения договоров и обязательств.
Человек по сравнению с каждым
гарантом роты был менее
могущественен по отношению к конкретным функциям, но зато он мог
осуществлять
также, как и Триглав, весь комплекс функций, хотя и в меньших, чем он
масштабах; именно поэтому он мог оказать существенное положительное или
отрицательное влияние на состоянья роты, правды, справедливости и
устройство
мироздания. Именно этим и определяется суровость наказания. Поскольку
правильный договор и его соблюдение укрепляют роту, правду,
справедливость и
устройство мироздания, а неправильный договор или нарушение правильного
договора нарушает действие роты, ослабляет правду, справедливость и
делает
прорехи в мироздании, постольку преступник и нарушитель должен понести
кару,
соответствующую противодействию божественному провидению и разрушению
мироздания. Карой для них было принародное расчленение, которое
производилось в
святилищах, посвященных гарантам соблюдения роты. К тем же, кто
преступил не
роту, а обыденные законы кара через расчленение никогда не применялось.
Существует расхожее мнение, что преступивших роту расчленяли в
соответствии с
ритуалом принесения жертвы гарантам соблюдения роты. Практически все
исследователи и комментаторы славянских дохристианских обычаев
утверждают, что
якобы по поверью славян ритуал именно жертвоприношения путем
расчленения преступника
восстанавливает силу роты и устройство мироздания. При этом
обосновывают такой
взгляд тем, что якобы ритуальное расчленение приносимого в жертву
преступника
является аналогом процедуры расчленения и разбрасывания частей
Первосущества,
из которых впоследствии возникло все сущее в явленном мире.
Полагаем, что это ошибочные
взгляды. Нарушителей договора и прочих
разрушителей роты, правды, справедливости и устройства мироздания
расчленяли не
в качестве жертвоприношения (такой термин вообще не появляется в
славянских
дохристианских текстах), это делалось для устранения источника
разрушения,
восстановления действия роты, правды, справедливости, в результате чего
становится возможным восстановление того, что разрушено в мироздании.
При этом
гарантов роты призывали только в качестве свидетелей правильности
воздаяния,
поскольку оно в действительности определено самим нарушителем роты -
из-за
своего греха он лишается защиты гарантов и самой роты. Не они
определяли кару и
воздавали. Преступник своими кощунственными деяниями и поступками как
бы
расчленял мироздание и тем самым определял свою кару. И поскольку это
сделал
человек, то и восстанавливать правильность и справедливость должен был
человек.
Расчленение преступившего роту преступника не является аналогом
распространения
свойств Первосущества в процессе образования образов и продуцирования
явлений.
Возможно, что расчленение для славян воспринималось как уничижение,
именно
поэтому оно могло быть применено к преступникам, но не могло быть
применено к
Первосуществу. А отождествление распространения свойств Первосущества и
расчленения преступника должно было восприниматься как кощунственное.
То, что
было естественно по отношению к сакральному Первосуществу, не могло
быть
применено к преступнику и наоборот, поскольку это как бы приравнивало
их.
При заключении договора, даче
обязательств, принятии присяги
славяне "ходили по роте", то есть либо приходили непосредственно на
территорию святилища гаранта роты или к какому-либо памятному предмету,
связанному с гарантом. Либо призывали в свидетели гаранта в то место, в
котором
находились сами в момент заключения договора, дачи обязательств,
принятия
присяги, и тогда то место, где это совершалось приравнивалось к
святилищу
гаранта. Похоже, что при этом славяне не клялись перед гарантами, на
оружии и
так далее - они просто описывали (как в современных юридических
документах)
обстоятельства дела и признавали ответственность за последствия в
случае
нарушения роты. Описывая в Повести временных лет, заключение договора
944 года
между Византией и Русью, летописец Нестор отмечает, что послы привезут
договор
Игорю и его людям "и те, кто принимает хартию, на роту идут
хранити истину. Мы же, те из нас кто крещен, клянемся
церквью святого Ильи… А
некрещеные руси … да клянутся, что все, что написано в этой
хартии будет
соблюдаться…". "На следующий день призвал Игорь послов и пришел
на
холм, где стоял Перун, и сложили оружие свое, и щиты, и золото и
присягали
Игорь и люди его - сколько было язычников между русскими. А христиан
русских
проводили к присяге в церкви святого Ильи …" Выглядит так, что
при
заключении договора православный император Византии клялся церковью
святого
Ильи Пророка, а славянский князь Игорь дабы установить истину "ходил по
роте", призывая в свидетели договора Перуна славянского аналога святого
Ильи. И при сем присутствовало личное оружие князя, которое по поверью
славян
должно было поразить его в случае нарушения им договора. Напрашивается
вопрос:
Кто из них язычник?
Христиане дают клятву на
библии, на кресте, целуют крест, но
обвиняют славян в язычестве на том основании, что те якобы дают клятву
на
камнях, на воде, на деревьях, на оружии, на костях предков. Возможна,
как мы
показали, и другая интерпретация, согласно которой славяне не клялись
на этих
предметах, а давали обещание, брали на себя обязательства около тех
предметов,
которые находились под защитой гарантов или были их символами,
поскольку сюда
их было легче пригласить в свидетели. Возможно также, для описания
обычаев и
религии одних славянских племен более правильной является первая
интерпретация,
а для других вторая. Но возможно, что не верны обе интерпретации. В
условиях
глобальной фальсификации истории критерии определения истинности
утверждений и
интерпретаций становятся зыбкими и ненадежными. Практически перестают
работать
даже те свидетельства современников, которые достоверно передают
естину,
поскольку их становится невозможно отличить от тенденциозных
фальсификаций и
ошибочных трактовок. В итоге все интерпретации и трактовки, построенные
на
сопоставлении подобранных исследователями исторических свидетельств
превращаются в частные домыслы их авторов. Соответственно таким же
домыслом
является и наша интерпретация состояния дохристианской славянской,
которую мы
предложили для рассмотрения. Несмотря на то, что она опирается на
большую
совокупность опубликованных сведений, которые выглядят вполне
правдоподобно.
К сожалению, частные домыслы
слишком часто превращаются в
очередную прелесть, с помощью которой склоняют людей к выбору очередной
безответственной
авантюры. Например, соблазняют к возврату, восстановлению, возрождению,
сохранению "истинной" религии и/или традиции, культуры и/или уклада.
Ну и какую же версию россиянам и России считать истинной? Славянской
дохристианской религии уже нет. Русского православия и не было никогда,
а византийское
православие исчезло вместе с Византией. Извращенный православием
вариант
славянской религии, равно как извращенный славянами вариант
православия, лучше
не брать. Извращенный симбиоз извращенной славянской религии и
православия
лучше даже и не рассматривать. А рассмотрение в качестве практического
мировоззрения того, что получилось от извращения большевиками и КПСС
извращенного славянско-православного симбиоза представляет опасность
для бытия
всего человечества.
А тут еще в контексте
размышлений о сути агрессивной экспансии у
нас возник образ последовательных валов, накатывающихся на Россию и ее
предков.
В начале этой агрессии видятся вал силового вытеснения
западнославянских племен
из сферы интересов христианства, вал уничтожения глубинного
эзотерического ядра
древней славянской религии через физическое уничтожение живых и
материальных
носителей этого знания, вал православной византийской агрессия и так
далее
вплоть до девятого вала, который накатывается на нас сегодня. При этом
девятый
вал является наиболее разрушительным на данном историческом этапе,
поскольку с
одной он многогранен и многолик, а с другой стороны его накат начался
на фоне
некоторой эйфории, которая возникла из иллюзии окончания
предшествующего вала
большевистской агрессии.
Ну и что делать человеку в
такой ситуации? Девятый вал уже на
дворе. Варианты выбора один хуже другого. Домыслы не достоверны. Кому
верить
неизвестно. Может быть, и выбирать ничего не надо, и решать ничего не
надо, а
плыть себе по течению? Что ж, это тоже нравственный выбор, но, пожалуй,
не лучший
и чреватый плохими последствиями. А как можно сделать хороший выбор?
Откуда
брать достоверную информацию? Вся прошлая история, которую преподносят
человеку, это перечень фактов и событий, но никакой информации в том
смысле,
как мы ее определили в наших размышлениях. Настоящее также
преподносится в
фактах и событиях, разбавленных дезинформацией. Будущее преподносится
уже без
фактов и событий, но зато с большим количеством дезинформации и
прелестей. При
этом события прошлого все сплошь агрессивные. На наших напали злые
вороги
пожгли, порушили, поубивали, увели в полон. Наши собрались с силами
пошли на
ворога наказали, взяли дань, вернулись с победой домой. Заключили
договор,
отбили, напали, побили, получили, заключили договор. Ни бытия, на
жизни, ни
даже существования. Людей нет - одни только схемы боевых машин. Как
нудный
сценарий нудного боевика. В голивудских боевиках эту "махаловку" хотя
бы разбавляют любовными сценами и эпизодами из обыденной жизни.
Настоящее либо
все в черных красках, либо радужно до неузнаваемости, либо зализано
так, что и
взгляд остановить не на чем. Будущее же, как всегда, прелестно. История
вообще
явление неопределенное и даже непредсказуемое ни в отношении прошлого,
ни в отношении
настоящего, ни в отношении будущего. То, что нельзя достоверно
предсказать
будущее, это еще, куда ни шло. Но ведь также невозможно предсказать,
каким
станет завтра сегодняшнее прошлое и настоящее. Короче, это заказные
игры. здесь
ставят "кино" по спецзаказу.
Значит надо звать на помощь
теософии и философии, богословия и
науки. Ведь именно здесь должны создаваться основы всех средств бытия и
именно
здесь должны править бесстрастность и непредвзятость. Но оказывается,
что здесь
также не обошлось без спецзаказа, но даже и его столпы и светочи
умудряются
делать вид, что выполняют, а на самом деле создали себе эзотерические
мирки с
эзотерическими средствами общения, в которые они могут скрыться от этой
жуткой
действительности. Значит, для получения информации к истории надо
добавить
литературу, поэзию и искусства. Здесь, по крайней мере, хотя бы
какая-то жизнь
есть и герои почти похожи на живых. При этом авторы по определению
должны быть
заинтересованы в признании их творчества со стороны обычных людей.
Только вот
довольно быстро становится понятно, что за редким исключением авторы в
основном
играют друг с другом в кулуарные интеллектуальные игры, окружив себя
своими
фанатами.
В общем, все играют в какие-то
свои игры, в которые непосвященным
нет доступа. Простых смертных допускают либо в качестве декоративного
фона, либо
в качестве молчаливых зрителей, либо как "пушечное мясо". А кто
запрещает играть простым смертным? Почему бы не превратить их игры в
свою
собственную игру? Хорошая мысль, но только без мордобоя и революционных
переворотов,
пожалуйста. Собственно по ходу наших размышлений мы в основном и
говорим о
такой игре, с помощью которой можно превратить страдательное пассивное
существование в полноценное бытие. Эта игра называется "созидание и
обретение". Если человек не просто знакомится или заучивает наизусть
предъявленные ему факты, события и даже информации, а активно обретает
информации об естине, что практически равнозначно обретению самой
естины, то
каждый в результате получает свою информацию об естине, свою естину,
свою
истину, то есть собственное знание в качестве средства обеспечения
своего
бытия. Это получается потому что в процессе
активного обретения предъявленной совокупной
"информации-естины-истины" человек активно пересоздает ее, переплавляя
в собственное практическое знание. Все очень просто. Надо только взять
весь
ворох предъявляемых другими игроками фактов, событий и информаций,
отсеять
лишнее, переплавить, пересоздать и обрести в качестве средства
собственного индивидуального
и совместного бытия. Да нет, мы вовсе не шутим. Это намного проще, чем
кажется
на первый взгляд. Каждому достает собственных духовных, душевных и
интеллектуальных средств обеспечения бытия, а главное здравого смысла,
для
того, чтобы начать эту игру, а потом в процессе партнерского участия
они будут
развиваться, совершенствоваться и расти. К тому же не все так
безнадежно, как
мы описали. Есть среди игроков те, кто только и ждут, когда здравые
люди
вступят в игру, чтобы стать их партнерами. К тому же не нужно списывать
со
счетов народное творчество. При этом А.С.Пушкин с Ариной Родионовной,
Ершов и
Шергин конечно же игроки на этом поле. Здесь уж точно и язык живой и
понятный,
и образы живые, понятные и близкие, и мудрость не эзотерическая, и
историческая
правда предсказуемая. А главное, что основными игроками и персонажами
здесь
являются обычные люди со здравым смыслом. Былинные Илья Муромец из
крестьянского сословия, Добрыня Никитич из воинского сословия и Алеша
Попович
из жреческого сословия ближе, живее и исторически достовернее, чем
князья Рюрик
и Рюриковичи или лжеправедница княгиня Ольга. Такие сказочные
персонажи, как
Кощей Бессмертный, Баба Яга, водяной или леший, даже серый волк или
конек горбунок
и то больше похожи на людей. Может быть, кроме народного творчества и
народных
промыслов ничего больше и не нужно?
Возможно, что также рассуждали
жрецы тех вероучений, которые
принимали решение о не фиксации в письменном виде текстов своих
вероучений. Возможно,
что также рассуждали вожди и старейшины тех племен и народов, которые
полагали,
что им не нужно жреческое сословие. Возможно, что также рассуждали те
племена,
которые не признали жрецов, звездочетов, писцов в качестве
производителей
жизненно необходимых благ и отказали им в праве создать свой
профессиональный
цех и стать уважаемым сословием. В результате они лишили себя
существенной
части национального богатства, капитала и средств обеспечения бытия,
которые
или не могли появиться вообще или были утрачены, поскольку в их
создание и
обретение не было инвестировано прежде всего партнерское живое участие
критического количества обычных людей. Тем самым не было обеспечено
развитие,
прогресс, рост и повышение могущества каждого человека, общности и
средств
обеспечения полноценного бытия.
Однако столь же опрометчиво
поступили племена и народы, которые,
создав такие структуры и сословия позволили им замкнуться внутри своего
профессионального
сообщества, действовать кулуарно, вырабатывать и принимать решения
самостоятельно,
без широкого участия или, хуже того, за всех и каждого. Еще более
опрометчиво
поступили те профессиональные структуры, которые отгородились от людей
и их
обыденного бытия, следствием чего появились замкнутые на себя секты, а
специалисты превратились в спецов с непомерными амбициями и гордыней.
Правда, в
этом не благом деле специалистам помогли обычные люди, которые либо
повиновались им, либо умильно и горделиво любовались ими и их делами и
безмерно
восхваляли их, либо бездумно потребляли результаты их деятельности,
либо просто
забыли об их существовании. Тем самым были извращены развитие,
прогресс, рост,
мировоззрение и средства обеспечения полноценного бытия каждого
человека и
общности.
Результатами упрощенно
описанных нами ситуаций, которые приводят к
недостаточному обеспечению или извращению бытийных циклов, могут быть
деградация, регресс и отмирание не только средств обеспечения бытия, но
также и
функциональных структур внутри общностей, и самих общностей, которые
оказались
недостаточно могущественными и не могли адекватно и вовремя выявлять,
формулировать и решать актуальные проблемы. В предыдущих главах мы
рассматривали необходимость комплексного обеспечения жизненных циклов
проблем,
идей, продукции как средств обеспечения бытия. Это необходимость их
реализации
и использования одновременно в различных сферах обыденного бытия.
Необходимость
специализации субъектов и средств обеспечения в этих сферах.
Необходимость
создания критических уровней количества и качества средств обеспечения,
предметов рассмотрения и субъектов взаимодействия. Мы предположили, что
бытие
реализуется только в настоящем, хотя в нем и присутствуют влияния из
прошлого и
будущего (рисунок 7-5 в томе 2),
исходя из того, что не конструктивно, не эффективно и даже вредно жить
в уже не
существующем прошлом и еще не существующем будущем. Точно также, как не
конструктивно, не эффективно и даже вредно собирать мировоззренческую
систему
из осколков прошлых религий или из компонент различных зовущих в
будущую утопию
религий и псевдо религий.
Полагаем, что теософам и
философам, богословам и ученым, политикам
и мечтателям пора прекратить звать людей, народы и человечество в какое
бы то
ни было светлое прошлое или будущее. Полагаем, что не только теософам и
философам, богословам и ученым, но также и каждому человеку
индивидуально и
всем вместе избавиться от умильного восприятия своих особенных религий,
мировоззрений, менталитетов, философий, наук, от мессианских амбиций и
от гордости
по поводу своего превосходства в чем бы то ни было и для начала задать
себе
вопросы: Какой Я есть сейчас? Какие мы все вместе есть сейчас?
7.3
Самоидентификация
россиян и России
7.3.1
Азъ
есмь!
Это Азъ,
Господи! Я есть! Это Я,
люди!
Что означает "Азъ есмь" и "это
Я"? Вероятно,
это означает самоидентификацию,
самовосприятие,
самоосознание и
самопредставление с одной стороны о себе во всей
полноте своего триединого Азъ и
своей триединой личности, когда это произносится во всех мирах
мегакосма. А с
другой стороны также и в качестве полноправной персоны, в целостности
совокупности своего Я, проявлений личности и организма, если это
произносится в
явленном мире. Это также
самопредъявление себя себе самому и самопризнание
себя собой самим. Так значит можно и не самопризнать себя самим
собой? А
почему нет? Дарованная человеку свобода воли настолько всеобъемлюща,
что он
имеет право отказаться даже от себя, но после этого обратного пути,
похоже,
нет. Можно отказаться от себя и своей свободы воли, но это чуть ли не
единственный необратимый грех и преступление, поскольку после этого не
остается
средств, для того, чтобы раскаяться, покаяться и измениться. Признать
себя -
это значит быть, не признать себя - значит не быть. Решайте сами.
Что означает "это Азъ, Господи"
или "это Я,
люди"? Это опять самоидентификация,
самовосприятие, самоосознание, самопредставление, самопредъявление и
самопризнание себя с одной стороны в качестве вселенского деятеля
и своего
бытия и метабытия во всех аспектах и на всех уровнях реальности
мегакосма, но
уже перед лицом Всевышнего. Или же с другой стороны перед лицом людей и
всех
субъектов явленного в качестве конкретного человека полноправного
деятеля, а
также в качестве русича, россиянина, субъекта различных отношений и
взаимодействий.
Я, который был, есть и будет. И
можно говорить "Азъ
есмь" и "это Азъ", "Я есть" и "это Я", а
если угодно, то и "Эго есть", даже "Ego sum", если так удобнее - все будет
правильно, потому что триединое Азъ неразделимо и каждая ипостась
представляет
все триединое и всего человека. Мы будем употреблять при
конструировании
высказываний форму "Я есть", поскольку в данный момент мы
представляемся
русичам и россиянам и представляем их себе как потенциальных
собеседников. Что
дает человеку возможность полагать, что это утверждение не ошибка, не
галлюцинация, не сон, не заблуждение или наваждение? Кроме
самопризнания
необходимо еще признание другими, что Я это действительно Я, что Я еще
Мы и Вы,
а также Я еще Он и Ты, который был, есть и будет. Соответственно "Я -
русич, россиянин, субъект конкретных отношений" означает самоидентификацию,
самовосприятие, самоосознание,
самопредставление, самопредъявление и самопризнание себя и своего
бытия в
качестве русича, россиянина, субъекта конкретных отношений плюс
признание тебя
таковым другими субъектами соответствующих отношений.
Ну, вот и "здрасте вам,
приехали". Значит обобщенная
характеристика русича и россиянина нужна? Не более чем для
идентификационных
свойств принадлежности субъекта к конкретным отношениям - всего лишь в
качестве
набора классификационных свойств принадлежности и никакого оценивания.
Да к
тому, же главным средством остается самопризнание плюс признание
другими. Нет,
от выбора, похоже, никуда не деться, а соответственно и ответственность
за выбор,
похоже, придется принять, раз уж право и ответственность по отдельности
не
даются и друг без друга не могут существовать, потому что становятся
бессмысленны.
В философиях и науках
теоретическое осмысление определение и
согласование сути Я и формулы "Я, который был, есть и будет" до сих
пор остается проблемой, по которой пока не удалось прийти даже к
согласованному
языку ее описания формулирования. В немалой степени это является
следствием
неготовности философов и ученых даже в рамках каждой отрасли знаний
договориться
между собой хотя бы о базовом нормативной языке проблемы. Тем более нет
согласия
между разными отраслями науки, философия и научно философскими
течениями. К
тому же, свое негативное влияние могут оказывать различия в
национальных языках.
С одной стороны Я рассматривается философами как действующий агент,
субъективированный деятель (актор), сама субъектность, аутентичный
центр и
источник инициативы и активности человека. С другой стороны - как
объект или
даже компьютерная программа, чему способствует наличие в языке речевого
оборота
"мое Я". Или даже просто в качестве местоимения как языкового
средства для обозначения человеком себя в процессах саморефлексии и
представления себя другим.
Соответственно возникают
сложности в определении и различении
"Я и мое". Может быть, кому-то и нравится воспринимать свое Я как
объект и даже вещь, но лично мы предпочитаем представлять собственное Я
в
качестве активной аутентичной субъектной сущности. При этом напоминаем,
что мы
предлагали различать понятия "вещь", "объект воздействия и
манипулирования" и "предмет познания и рассмотрения". Считать Я
или дух, душу, интеллект компьютерными программами, да еще заложенными
неизвестно кем, для нас также неприемлемо, как и представлять себя
биороботами.
Тем более что в языках программирования вообще отсутствует такая
сущность, как
Я. У нас сложилось устойчивое мнение, что введение в язык таких
понятий, как
Я-объект и Я-компьютерная программа амморально, безнравственно и
неконструктивно.
Формула "Я, который был, есть и
будет" породила не
меньше споров и противоречивых научно философских концепций, чем
понятие
"Я". По нашему мнению, противоречия в сути этих понятий, которые
приписывают им мыслители, в действительности являются
противоречивостями в
мышлении самих мыслителей и их в концепциях, вызванные противостоянием
их
амбиций и имманентной неспособностью договариваться. Полагаем, что в
контексте
формулы "Я, который был, есть и будет" необходимо рассматривать
понятия самоидентификации, подлинности, самотождественности и
самоидентичности
человека и его Я.
Несомненна практическая
важность этих понятий и формул для
выявления, формулирования и решения проблем и задач в практической
философии,
психологии, социологии и других гуманитарных науках. Такие вопросы, как
права,
в том числе права на собственность и на деятельность, ответственность,
поступки,
деяния и воздаяние вообще немыслимы без понимания того, что формула "Я
сегодня тот же, кто был вчера, а завтра я буду тот же, кто я есть
сегодня"
означает самотождественность,
а формула "Я
сегодня
такой же, как был вчера, а завтра я буду такой же, как я есть сегодня"
означает самоидентичность. Эти речевые формулы являются
выражением
того, что триединая личность и
триединое Азъ человека самотождественны,
то есть остаются
теми же самыми по своей сути. И соответственно выражением того, что
триединая личность и триединое Азъ человека
самоидентичны, то есть остаются одинаковыми
по своим
определяющим атрибутивным свойствам, а развитие происходит через
приобретение
новых свойств аспектами проявлений личности.
Применительно к человеку эти
определения выглядят естественно и
даже почти очевидно. Но насколько это, применимо хотя бы к таким
порождаемым
людьми консубъектам как страна, народ, нация, государство, общество? А
тем
более к таким консубъектам, которые человек порождает совместно с
растительными
и животными особями? Ответы на эти вопросы могут быть получены только в
процессе создания и обретения комплексной модели бытия, в которой
теософии и
философии, богословия и науки, а также специалисты в этих дисциплинах
не
выступали как антагонисты. А пока попробуйте применить к консубъектам
определение идентичности личности как
(1) совокупности таких свойств как самость, аутентичность,
самоопределенность,
самоистинность, полноценность, гармоничность по отношению к себе, к
своим
проявленьям и к организму, сопричастность миру и другим людям; как (2)
такого
состояния личности, которое строится на ее способности быть
независимой,
последовательной, солидаризироваться с идеями социальных групп, быть в
ладу со
своим организмом, чувствовать удовлетворение от того, кто и какой ты
есть. На
абстрактном уровне, выглядят вполне невинно и очевидно утверждения, что
страна,
народ, нация, государство, общество, которые порождаются людьми и
действуют в
качестве консубъектов, должны произвести также как и человек тот же
выбор, те
же само и совместное осознание, предъявление признание. Однако, когда
вместо
абстрактных начинают использоваться конкретно определенные понятия все
становится не столь очевидным. Более того, трудности возникают даже
тогда,
когда необходимо перейти от абстрактных определений, трактовок и
интерпретаций
характеристик "человека вообще" к характеристикам хотя бы минимально
конкретизированного "человека россиянина".
И тем не менее без абстрактных
характеристик "человека
вообще", которые тем не менее должны создаваться, обретаться и
проверяться
живыми людьми на основании самонаблюдения, невозможно создать и обрести
характеристики человечества, народа, россиянина, семьянина и так далее.
Мы
полагаем, что повышение определенности своего выбора в этих вопросах
также
является проблемой нравственного выбора. От того, какой выбор делает
конкретный
индивид, зависит его восприятие себя и других, сама возможность
адекватной
конструктивной саморефлексии, самоопределение и уважение к себе и
другим.
Восприятие человека и его Я в качестве объекта или вещи влечет
соответствующее
отношение к нему (в том числе и правовое) и чревато отчуждением
ключевых для
личности и персоны человека свойств, что является угрозой для его
личностной и
персональной целостности. При этом в данном контексте мы понимаем отчуждение как
процесс и результат, когда человек становится чужд какой-либо своей
собственности,
включая его свойства, способности, права и ответственность,
деятельность, средства,
результаты и в итоге самого себя. Представление человека и его Я как
объекта и
вещи само по себе является разновидностью отчуждения и одновременно
является
средством для обеспечения отчуждения, для дегуманизации и машинизации
бытия,
для манипулирования и насилия. Становятся квазиестественными и
привычными в
употреблении обобщенные стандартизованные и схематизированные
характеристики
человека как биоробота. Все это воспринимается и должно восприниматься
человеком со здоровой психикой как угроза его самости, индивидуальности
и
неповторимости, как узурпация его прав и свобод.
Разновидностью отчуждения, по
нашему мнению, является трактовка
предопределения, судьбы, удела, миссии как чего-то заданного извне,
свыше, от
космоса, от пришельцев, от природы. Я как машинная программа или
человек как
биоробот, не имеющий свободы воли, ничего не имеющий и ничем не
владеющий,
ничего не определяющий даже по отношению к себе самому - вот мечта
узурпаторов
и манипуляторов разных мастей. И уйма мыслителей старается вовсю, чтобы
обосновать и внушить электорату эти аморальные и безнравственные
"истины". Тем не мене, человек имеет право и должен делать сам свой
нравственный выбор. Это его прирожденное право и обязанность, прежде
всего
перед самим собой и своими ближними. Аутентичность, самость,
самоопределение и
самореализация человека зависят от этого выбора. Если человек
согласится, чтобы
его воспринимали в качестве вещи или биоробота, то он ими и будет.
А вслед за ним станут вещами
или роботами и те консубъекты,
которых он порождает. Однако насколько это утверждение является
истинным, а
также насколько те рассуждения, которые привели к нему могут быть
применены к
консубъектам? Насколько применимо к консубъектам понятие "нравственный
выбор", которое является производным от понятия "нрав"? Одно из
определений нрава мы предложили как характеристику субъекта вообще. Нрав в
этой формулировке определен как система персональных ориентиров, норм и
средств
субъекта, включающая его мораль, этику и этос, ставшая его сущностью и
необходимая для формирования своего внутреннего личностного мира и
организации
личностного взаимодействия с окружающим миром. Вроде бы она применима и
к
консубъекту "народ", и к человеку, и к таким воплощениям субличности
человека, как семьянин, профессионал, гражданин, россиянин. Но так ли
это?
Попробуйте тогда применить также понятие "норов" которое мы предложили
определить
как комплексную систему свойств, качественно характеризующую
психофизиологические средства обеспечения бытия организма, которыми
субъект
овладел в процессе взаимодействия в каждой из сфер отношений. Или нравственность как
самодеятельное формирование субъектом своего нрава и добровольное
следование
ему. Или обратное нравственности понятие "безнравственность", который обычно трактуется либо
(1) как не
следование собственному нраву, несоблюдение норм и ориентиров
собственного
нрава, либо (2) как отсутствие собственного нрава.
Очевидно, что есть подобие
между соответствующими характеристиками
человека в целом, его различных субъектных проявлений и порождаемых им
консубъектов. Возможно, что есть между ними и какие-то качественные
различия.
Например, совокупность нравов людей в общем случае, вероятно, не
совпадает с
нравом сообщества. Вероятно, для большей корректности и удобства
описаний
следует подобным характеристикам присвоить разные термины. Например,
термин
применим социализованность к различным субъектным проявлениям человека
в
различных сферах отношений, но необходимо разобраться насколько он
применим к
консубъектам. Хотя ранее мы и определили социализованность как социальную способность
"субъекта вообще" принимать роль
партнера по взаимодействию
в социальной группе, представлять, как его воспринимает партнер, и
соответственно интерпретировать ситуацию и конституциировать
собственное
поведение. Хотя подобных сомнений меньше по отношению к термину "мировоззрение", которое определено как
средство
ориентации субъекта - система
социально значимых ориентиров, которыми руководствуется субъект в
качестве
внутренних средств для построения своих внутренних миров, для
определения и
обоснования правильности поступков (с одной стороны своих и с другой
стороны
чужих) и для организации внешних средств воздействий, взаимодействий,
деятельности.
И уж совсем ни у кого не
вызывает сомнения, что понятие "самоопределение" применимо и к человеку, и к
гражданину, и к народу или стране. При этом, правда, само это понятие
не очень
внятно определено. С одной стороны его трактуют как сознательный акт
выявления,
формулирования и утверждения собственной позиции субъекта в проблемных
ситуациях. С другой стороны как избирательное отношение субъекта к
воздействиям
со стороны других субъектов или общности, в которую он входит,
выражающееся в
принятии одних и отвержении других воздействий в зависимости от
соотношения
своих внутренних и внешних ориентиров - идеалов, ценностей, целей,
норм,
убеждений, оценок, критериев и так далее. С третьей стороны в
экзистенционализме самоопределение трактуется как синоним понятия "самоназначение", которое выводится из
утверждения
якобы сделанного Наполеоном: "Определяют тебя (для чего-либо), а потом
смотрят". Сартр трактует самоопределение следующим образом: "
Человек, совершающий самоопределение и благодаря этому выясняющий для
себя, что
он не только тот, быть которым избрал для себя, но и законодатель,
одновременно
с самим собой избирающий все человечество, - этот человек едва ли
должен избегать
чувства своей полной и глубокой ответственности". Соответственно
самоопределению противопоставляется "пассивизм", определяемый как поведение,
которое состоит в том, что субъект, придерживающийся его, избегает
вмешиваться
в судьбу или влиять на ход событий, происходящих во внешнем мире, на
том
основании, что невозможно обозреть следствия этого вмешательства и
нельзя
отвечать за них. Пассивизм является ключевой позицией концепции недеяния в
китайской классической философии - "Мудрец не рискует действовать"
(Чжуан-цзы). При этом частью концепции недеяния является непротивление
злу,
частью которого является непротивление злу насилием.
Несмотря на то, что понятиям,
обозначенным терминами, которые
образованы с помощью приставки "само…", в ХХ веке было уделено
много
внимания, пока недостаточно осмыслена их роль для построения моделей
бытия и
описания характеристик субъектов. С одной стороны определение и
активное
использование сложных терминов с приставкой "само…", должно
сопровождаться
существенным пересмотром определений не только тех исходных терминов,
из которых
они образованы, но также и многих других, которые входят в их контекст.
Дело в
том, что понятия, обозначенные сложными терминами, являются не просто
дополнением
или разновидностью исходных понятий. Они являются для исходных понятий
конструктивными противоположностями, которые их контекстно углубляют,
уточняют,
конкретизируют и даже переопределяют. С другой стороны эти понятия
необходимо
рассмотреть особо применительно к частям и целому, к системе и
компонентам, к
человеку в целом, к его субъектным проявлениям и к консубъектам. Без
этого не
только невозможно создание, описание и обретение моделей и
характеристик, но
также и конструктивное становление психологии, социологии и многих
других
дисциплин.
В контексте данного параграфа
необходимо различать следующие
понятия. Самоосмысление как
определение субъектом смысла своих поступков, действий, деятельности в
контексте смысла всего своего индивидуального бытия и мегабытия в
соответствии
с бытием явленного мира и мегабытием мегакосма.
Самоосознание (самосознание) как определение субъектом
Самореализация -
реализация своего могущества
Так в чем же необходимо
самоопределяться, самоидентифицироваться и
самоутверждаться россиянину и России? На что они могут опираться при
осуществлении
нравственного выбора? Из чего они могут выбирать? В предыдущем разделе
мы
сопоставляли хотя и правдоподобную, но все-таки абстрактную модель
дохристианской славянской религии и социально политических структур с
правдоподобной, но также в сильной мере абстрактной православной
моделью. Такой
прием допустим для абстрагированного предварительного анализа и
сопоставления
отдельных свойств гипотетических процессов и явлений, но совершенно не
допустим
для описания происходивших, происходящих или предполагаемых в будущем
реальных
процессов с действительными явлениями и субъектами. В частности, мы его
использовали для конструирования правдоподобного взгляда на
политеичность
языческих религий, альтернативного ныне принятому взгляду на
соотношение
монотеизма и политезма. Этот взгляд является не более, чем полемической
абстракцией, которая может быть допустима только в пределах абстрактных
теоретических размышлений. Практическое же использование абстрактных
явлений и
процессов в качестве вариантов для конструирования действительности
следует
квалифицировать либо как прелесть, либо как заблуждение.
Например, на основании
правдоподобного предположения, что славяне
в какой-то исторический период составляли целостную славянскую
общность, а еще
раньше входили в целостную индоевропейскую общность, нельзя строить
реальную
модель взаимодействия общеславянской дохристианской и православной
религий и
социально политических структур на рубеже первого и второго тысячелетий
нашей
эры. Процессы и явления были намного более сложными и растянутыми во
времени.
Во-первых, в действительности множество славянских племен не являлось
цельной
общностью. Даже группировки племен, обозначаемые как западные,
восточные или
южные славяне, довольно условны. Практически в каждом славянском
племени были
свои вариации религии и социального устройства, которые в различной
степени
пересекались друг с другом и с вариациями других народов и племен, с
которыми
они взаимодействовали. Каждое славянское племя старалось подчинить и
обложить
данью любое другое как славянское, так и не славянское племя и народ,
выбирая
при этом в союзники и тех, и других.
Во-вторых, по некоторым
свидетельствам процесс проникновения
христианской религии в славянские племена в действительности в отличие
от абстрактной
модели начался, чуть ли с первого века нашей эры. При этом христианская
экспансия не всегда носила агрессивный характер. К моменту тотального
внедрения
православной религии в племена Киевской Руси в них уже были
христианские и
мусульманские общины. Более того, по свидетельству летописца Нестора
при
заключении в 944 году договора между Русью и Византией "языческая"
часть дружины и приближенных князя Игоря "ходили по роте", а
христианская часть давала клятву о соблюдении договора в церкви святого
Ильи.
Вообще на этапе естественного распространения христианской религии ее
вполне добровольно
принимали в первую очередь уничиженные слои населения, а также те
племена и
народы, которые из-за геополитического перераспределения сил, функций,
центров
активности, торговых путей оказались на обочине мировых экономических
процессов.
В-третьих, причины того, что
религия того или иного славянского
племени уступила свои позиции христианским религиям, заключались не
только во
внешнем давлении христианства, но во внутренних социально политических
обстоятельствах. Религии восточных и южных славянских племен частично
изменялись
естественным образом под влиянием религий соседних народов.
Христианская
религия также входила без сильного организованного противодействия в те
западные славянские племена, в которых не было собственных сильных
жреческих
структур. Те же племена, где позиции славянской религии и жреческие
структуры
были цельны и сильны, были просто уничтожены. Несколько иная картина
наблюдается в Киевской Руси, где религия и жреческие структуры были, не
столь
монолитны и однородны. Политические разногласия и борьбы за власть
между
племенами и внутри жреческой структуры вылились в переворот, который
организовала часть верховных жрецов и вождей во главе с киевским
князем,
который был одновременно и верховным жрецом. В этом перевороте
византийские
религиозные и светские структуры были использованы в качестве союзников
и
средств перераспределения власти на Руси.
Вероятно, были также и другие
причины того, что ведущая славянская
религия Руси не смогла противостоять перераспределению властных функций
и
вторжению православной религии. Например, это могли быть качественные
характеристики состояния на тот момент славянской религии, ее
космогонической
модели и жреческой структуры. На основании косвенных проявлений можно
гипотетически предположить, что к этому моменту началось вырождение
жреческой
структуры и превращение ее эзотерического ядра в обособленную секту
спецов. Не
исключено также, что в этот момент начался процесс переопределения
религиозной
и социально политической парадигмы, который сопровождался
противоборством
тенденций развития, консервации и деградации космогонической модели.
Соответственно эти процессы проецировались на обыденное бытие и могли
породить
противоборство тенденций прогресса, консервации и регресса концепций
социально
политического устройства, а также мировоззрения, этики и нравов. Все
это
сопровождается одновременно протекающими процессами объединения и
разделения
субъектов как внутри племен и народов, так и между ними. Мы уже
отмечали, что в
периоды деградации, дегенерации и деморализации социума происходит
огрубление и
дегуманизация нравов и норовов, что выражается в увеличении актов
насилия, в
ослаблении солидарности, симпатии, доверительности и близости между
субъектами
отношений, а также в снижении социализованности субъектов и их
лояльности к
нормам и иным ориентирам сообществ. Это утверждение применимо как к
отношениям
между племенами и народами, так и к отношениям внутри них между людьми.
И
свидетельства в пользу этих гипотез можно найти в большом количестве в
летописях того времени. Однако конструктивное формулирование и анализ
этих и
подобных им гипотетических предположений можно произвести только в
процессе непредвзятого
комплексного междисциплинарного исследования.
Вот только не мешало бы
определиться, почему и зачем необходимо
такое исследование процессов и явлений исторического прошлого. Ведь
аналогичные
процессы и явления мы можем наблюдать в изобилии в настоящем. К тому же
результаты подобного рода исторических исследований никогда не будут
однозначно
достоверными. Всегда на одном и том же исходном материале будут
построены
довольно правдоподобные, но при этом диаметрально противоположные
гипотезы.
Приводится множество причин и целей, с помощью которых обосновывают
необходимость исторических исследований - от необходимости знать свои
древние
корни, до необходимости учитывать опыт прошлого в организации
настоящего и
прогнозировании будущего. Полагаем, что результаты анализа опыта
непосредственно предшествующего прошлого и текущего настоящего могут
быть более
достоверными и информативными. Можно предположить, что стремление к
анализу
дальнего прошлого зачастую основано на интуитивном желании
исследователей
поднять эмоциональную легитимность исследований и их результатов, на
эмоциональном желании потребителей приобщиться к славному прошлому, а
также на
ничем не обоснованном утверждении, что эти исследования и результаты
более
непредвзяты, объективны и свободны от излишних деталей и текущей
конъюнктуры.
Однако есть и фундаментальная
основополагающая естественная
причина для исторических исследований. Это прирожденный инстинкт глобальной рефлексии, которая определена нами как
прирожденная, исходная и неуничтожимая необходимость и постоянная нужда
человека в осуществлении познания себя,
своего эндомира и своего места во внешнем мегамире в прошлом настоящем
и будущем
с одной стороны, и познание внешнего
мегамира и его соотношения с собственным эндомиром с другой
стороны, плюс
способность признать за другими право на осуществление того же. При
этом
следует напомнить, что мы рассматриваем инстинкт гораздо шире, чем
просто
физиологический механизм. По нашему определению инстинкт -
это личностные и психофизиологические механизмы выбора/принятия
решений,
стимулы, побуждения, предпочтения, естественные влечения, склонности к
определенному поведению и реакциям на сложившиеся ситуации,
обстоятельства и
раздражители, которые повышают вероятность выживания и повышения
могущества
субъекта.
Изучение истории с древних
времен, возможно, необходимо также для
подтверждения архетипичности и закономерности, а не случайности свойств
процессов
и явлений, которые наблюдаются в текущем настоящем и непосредственном
прошлом.
Чтобы узнать или убедиться в том, что или так было всегда, или что-то
раньше
было лучше, или что-то было хуже. Кроме того, в утверждениях "Я
есть!" и "Это Я, люди!" предполагается или может предполагаться,
что говорящий самоутверждается как Человек, что он из такого-то
древнего
рода-племени, что он член такой-то общности и так далее. Человек
инстинктивно
нуждается в подтверждении, что у него и его рода-племени древние и
заслуживающие всеобщего уважения корни. Но это представление о своих
древних
корнях является "палкой о двух концах". Оно может быть использовано и
во благо и во вред. Если это представление используется как источник
для
чувства взаимного уважения и сопричастности людей друг другу, то оно
приносит
пользу, благо и добро. Если же, как источник гордости, чувства
превосходства
над другими, то порождает вред, лихо и зло. Полагаем, что
конструктивнее и
полезнее всем и каждому человеку признать, что у всех людей и у каждого
человека есть один общий древний и достойный всеобщего уважения корень
- Адам и
Ева.
Говорят, что когда Всевышний
хочет наказать человека, то лишает
его разума. Если бы мы считали, что Всевышний наказывает человека за
его грехи,
вопреки тому, что Он дал ему свободу воли и, судя по всему, никогда не
отбирал
ее и не намерен этого делать, а раскаявшийся и покаявшийся грешник
дороже Господу
чем 99 праведников, то мы бы перефразировали это высказывание по
своему. Когда
Всевышний хочет наказать человека, то Он лишает его сначала веры, потом
любви,
а затем и надежды. Мы бы могли так сказать, но не скажем, поскольку
считаем,
что на самом деле человек своими неправедными выборами, поступками и
деяниями,
извращает себя сам и тем самым сам лишает себя способности и
возможности быть.
Мы считаем, что негоже перекладывать ответственность с себя на других,
кто бы
они ни были. Более конструктивно было бы сказать, что человек сам
теряет
способность использовать сначала свою веру, потом свою любовь, а затем
и свои
надежды. Полагаем, что триединство веры, надежды и любви в человеке
неистребимо, поскольку является прирожденным даром и исходным средством
для
полноценного приятия себя и других. Проекция этого триединства в
обыденное
бытие обеспечивает реализацию инстинкта
благожелательного приятия - с одной стороны прирожденная, исходная
и
неуничтожимая необходимость и постоянная нужда человека верить, любить
и
надеяться по отношению к себе и к
другим, а с другой стороны также потребность, необходимость и нужда в
том,
чтобы его любили, чтобы ему верили, чтобы на него надеялись.
Слитность и неразрывность веры,
надежды и любви, а также
способности верить, надеяться и любить иногда приводит если и не к их
отождествлению, то к настолько слабому различению, что при описании
характеристик процессов и явлений и путают друг с другом. Именно
поэтому они
так сложны для конструктивного определения. Однако во всех теософских,
философских, религиозных и гуманитарных учениях их пытаются определить,
поскольку от этого зависит построения всего учения. Именно поэтому в
учениях,
которые являются средством превращения человека в пригодную для
манипулирования
вещь, в первую очередь стараются извратить именно эти понятия. Примером
тому
могут служить представленные нами в начале книги одиозные определения
веры,
доверия и уверенности. Есть и более конструктивные, по нашему мнению,
определения веры, которые могут лечь в основу размышлений при создании
собственных определений как средств обеспечения самоопределения и
организации
своего бытия. К ним можно отнести следующие два определения, взятых из
разных
источников. Вера -
1. Особое состояние психики человека, состоящее в полном и
безоговорочном
принятии каких-либо сведений, текстов, явлений, событий или собственных
представлений и умозаключений, кои в дальнейшем могут выступать основой
его Я,
определять некоторые из его поступков, суждений, норм поведения и
отношений. (Современный
словарь по психологии). 2. "Признание чего-либо истинным с такой
решительностью, которая превышает силу внешних фактических и формально
логических доказательств. Это не значит, что истины веры не подлежат
никаким
доказательствам, а значит только, что сила веры зависит от особого
самостоятельного психического акта, не определяемого всецело
эмпирическими и
логическими основаниями". (Вл. Соловьев).
В терминах наших размышлений вера
может быть исходно определена как способность и готовность триединого
Азъ и
личности других без предъявления доказательств непосредственно
прозревать,
постигать и обретать целостную и взаимосвязанную суть сущего и бытия, а
также
сокровенные тайны мегабытия как целостного и взаимосвязанного процесса,
и
воплощать постигнутое как истины через свои проявления личности в
качестве
средств обеспечения бытия. Вера является основой для уверенности
в себе и в своих личностных средствах, которую исходно
предлагаем определить как способность и готовность человека признавать
целостность,
взаимосвязанность и адекватность своих духовных, душевных и
интеллектуальных
восприятий и представлений. А на вере и уверенности может быть
построено доверие к другим как способность и
готовность принять как истинные высказывания или свидетельства других
без
предъявления доказательств.
Мы полагаем, что без веры,
уверенности и способности верить
невозможно никакое познание, да и само бытие ограничивается пределами
элементарного существования. Без этой способности стало бы
бессмысленным
множество понятий. Верно -
правдиво, точно, несомненно, неложно. Верить,
Верение -
признание верности чего-либо. Веровать,
Верование -
иметь веру в высшие предметы. Уверять,
Уверение -
убеждать в верности чего-либо. Удостоверять,
Удостоверение -
подтверждать верность чего-либо. Верность -
преданность и следование своей вере и тому, что признано верным. Доверять -
поверить, поручить, отдать на веру, на совесть; полагаться на кого,
верить ему,
не сомневаться в честности его, полагаться вполне. Убежденность -
вера в свою правоту. Все перечисленное не возможно без культивирования
и
использования человеком своей прирожденной глубинной веры и без
уверенности,
что такая же вера есть в сердце каждого другого.
Некоторый вред может причинить
отождествление понятий
"вера" и "религия". При этом теряется суть понятия
"вера", которое является краеугольной категорией для философии,
теософии, науки и богословия. Религия от этого отождествления не только
ничего
не приобретает, но в действительности теряет возможность опереться на
фундаментальную категорию "религиозная вера", которая также
оказывается разрушенной. Критерий различения веры и религии очень прост
- вера
прирожденна, а религия выбирается.
Триединство веры, надежды и
любви является исходным средством
триединой личности человека, а не чем-то привнесенным от общества,
церкви и других
социальных институтов. И поскольку личность человека не появляется, а
проявляется в поступках и деяниях человека, в его взаимодействиях,
общении и
коммуникации с другими, постольку точно также не появляются, а
проявляются и
средства личности прирожденные вера, надежда и любовь. Полагаем, что
прирожденная
вера в единстве с прирожденными любовью и надеждой должна быть единым
средством
обеспечения бытия человека и человечества, несмотря на многоаспектность
ее проявлений.
Просто надо помочь людям восстановить нормальное восприятие веры и
научиться
правильно пользоваться ею. Только тогда появятся нормальные основания
для
выбора. Использование веры в качестве первичного основополагающего
средства обеспечения
делает бытие человека добродетельным, полноценным и эффективным, а
безверие это
патология. При этом вера, будучи средством триединого Азъ и триединой
личности,
включающей в себя дух, душу и интеллект, охватывает сферу более
широкую, чем
духовность, душевность или интеллектуальность по отдельности. Тем более
сфера
веры шире, чем сфера религиозности, поскольку только одна духовность
охватывает
более широкую сферу бытия, чем религиозность. Религиозность всего лишь
один из
способов самореализации духовности. Мы этим высказыванием отнюдь не
хотим
умалить религиозность, способность человека к ней и роль ее в бытии.
Однако,
когда какая-либо религия пытается узурпировать всю сферу духовного
бытия или
играть в ней главенствующую роль, то мы, естественно, престаем ей
доверять, а
тем паче, когда то-же самое собирается сделать какая-либо церковь. Мы
полагаем,
что даже вера в высшие сущности не обязана реализоваться в
религиозность
определенного направления. Религиозность не обязана реализоваться через
воцерковление в какую-либо конкретную церковь. Воцерковление не должно
обязывать
прихожанина безоглядно следовать указаниям какого-либо служителя этой
церкви.
Не сомневаясь в ценности,
полезности и действенности посещения
религиозных храмов и совместные моления, мы считаем, что истинный
исходный храм
создается вначале его триедиными Азъ и личностью в самом человеке на
всех
уровнях его эндокосма, а затем последовательно распространяется на весь
универсум по мере восхождения к образу и подобию. Соответственно
вызывает
недоумение, когда какая-либо церковь пытается убедить или принудить
верующего к
обязательному воцерковлению и соблюдению своих церковных ритуалов под
страхом
отказа в спасении. Воинственная религиозность ничем не лучше
воинственного
атеизма, хотя и отождествлять их тоже нельзя.
Некоторые считают, что
большевизм является разновидностью
атеистической религии. Вероятно, правильнее было определить, что между
большевизмом
и религиозностью такое же соотношение, как между псевдорелигией и
религией. А
марксизм-ленинизм в результате догматизации вообще выродился в
сектантство.
Кстати вызывает тревогу, что у вчерашних воинственных атеистов
появилась мода
демонстрировать свою приверженность к православной церкви, апеллировать
к ее
авторитетам и священным писаниям, искать поддержки в своей публичной
деятельности и даже выступать со своими заявлениями под прикрытием ее
авторитета.
При этом иногда создается впечатление, что некоторые священники
потворствуют
этим поползновениям. При всем том, что церковь не должна отталкивать от
себя
тех, кто к ней приходит, некоторая неразборчивость по отношению к
конъюнктурным
политикам вызывает вполне определенные опасения. Не превратиться бы
Ортодоксальной Российской Православной Церкви (РПЦ) в Ноев ковчег
идеологического отдела ЦК КПСС. И хотя это дело выбора церкви и ее
прихожан, мы
полагаем, что снижение доверия даже не воцерковленных людей церкви тоже
не
нужно.
Впрочем, лукавый выбор, как
правило, в итоге оборачивается против
тех, кто лукавит. Они накажут себя сами своим самоизвращением. Более
опасным и
вредоносным явлением является догматизм, особенно догматизм в
собственном
мироощущении и мировоззрении. Под
догматизмом мы
понимаем всего лишь еще один недостаток, который стал продолжением
достоинства
- дело обеспокоенного будущим нормативного человека, доведенное до
неконструктивной крайности страстным фанатизмом. Нет, мы не против догм
и
догматов - мы против изма. О догмах и догматах, точно так же как и об
аксиомах
невозможно спорить - они принимаются на веру либо не принимаются
вообще,
поскольку и догматы и догмы недоказуемы по определению. Догма- недоказуемый и недоказываемый
тезис,
который признается истинным по определению и принимается на основании
веры в
его непреложную и непререкаемую истинность и доверия к тому, кто его
провозглашает. Истинность тезиса (догмы, аксиомы) кладется в основу
определенной
философии, науки или религии. Догмат, по сути, то же, что и догма. Он
является
основным положением вероучения, обязательным для всех исповедующих это
вероучение, признаваемым непреложной истиной, не подлежащим критике,
принимаемым на веру.
Нам довелось ознакомиться с
оригинальным предложением относительно
термина "вера". Вот оно. "В англоязычных странах термином Faith обозначают духовное и
сакральное
отношение человека к бытию-истине, а светское и гносеологическое
отношение к
истине закреплено в термине Belief. Целесообразно воспользоваться
этой традицией и ввести в
русскоязычный философский оборот два родовых понятия - "фейтх-веру" и
"билиф-веру".
У нас по этому поводу сложилось
явно диаметральное представление.
Мы полагаем явным достоинством наличие и в философском языке, и в живом
русском
языке именно одного термина вера. Наличие в философском языке этих двух
дополнительных терминов не поднимет статус духовной веры, не улучшит
степень
выразительности отношения человека к ней. Вероятнее всего это действо
проведет
еще одну трещину между философией и жизнью, разорвет и разведет эти
аспекты
веры и одновременно снизит уровень восприятия всех трех терминов. Не
этого ли
хотели апологеты коммунистической пропаганды, когда в психологическом
словаре
определяли веру, уверенность и доверие: "Вера - обязательный компонент
религии. Исторически входит в грамматический корень слов уверенность и
доверие,
но не связана с ними по содержанию. Корень (от слова вера) вошел в них
только
исторически вследствие ошибочного понимания психологической структуры
этих феноменов,
важнейших для воспитательной работы". Такие утверждения являются
средством
извращения и живого русского языка, и мировоззрения человека, то есть
являются
средствами причинения вреда.
Одним из средств восстановления
чистоты живого русского языка явилось
бы согласованная переработка и переиздание словарей - как общих, так и
специальных.
Причем, переиздание философских словарей может оказаться даже более
актуально и
эффективно, поскольку спрос на философские словари и книги в России
необычайно
велик. Пока же словари и учения вводят людей в заблуждение,
дезинформируют и
дезориентируют, или точнее, по-прежнему продолжают ориентировать и
синхронизировать мышление и сознание на овеществляющий уничижающий
человека и
его бытие лад. Частным случаем такого овеществляющего уничижения
является
отмеченный нами ранее взгляд на человека как на сборище враждебных друг
другу и
самому человеку анонимных сил и примитивных телесных инстинктов.
Причем, они
ведут непримиримую борьбу и даже войну внутри человека и со всем и
всеми вне
его, которые якобы невозможно привести к согласию и мирному
взаимодействию, а
также добиться такого их состояния, чтобы они не вредили человеку.
Далее этот
взгляд автоматически переносится на характеристики консубъектов всех
уровней от
сообществ и социальных институтов до наций и человечества. Таким
образом, все
субъекты и консубъекты фактически признаются порочными и не способными
к
восхождению, сотворению партнерской экспансии без борьбы, вражды, войны
и
образа врага. Культура борьбы за выживание в процессе агрессивной
экспансии
становится определяющей концепцией для действующей нормальной
парадигмы,
которая воспроизводится сама и воспроизводит культуру войны через
воспитание,
образование и обретение средств обеспечения бытия. И уже практически
невозможно
различить, где заканчиваются заблуждения и начинается прелестнословный
обман.
Хуже обмана может быть только самообман, который определяется как намеренное избежание неприятных тем и
истин; намеренное создание условий и
предпосылок для изменения образов действительности в благоприятную для
себя
сторону; намеренное внушение себе
ложных восприятий и представлений; намеренное
отрицание или не усмотрение очевидного. Основными побуждениями для
самообмана
являются стремление выиграть или победить, не имея на то необходимых
способностей, возможностей или средств; боязнь не справиться с
ситуацией или
проблемой; страх перед собственной свободой выбора; желание уйти от
ответственности.
Как ни странно, но науки о
человеке и социуме не исследуют
самообман, и поэтому проблему самообмана обсуждают только философы,
хотя ее
нужно бы квалифицировать как комплексную. Неучастие специалистов в
сочетании с
отсутствием достаточно конструктивной предсказательной модели природы
человека
делает проблему практически неразрешимой. Философы как обычно не смогли
договориться даже о первичных понятиях и определениях. Как бы ни
называли
мыслители свое исследование - самообман, дурная вера, ложное сознание,
внутреннее заблуждение - использовать их результаты в качестве
практического
средства самозащиты себя или защиты другого от самообмана невозможно.
В предложенном нами определении
самообман рассматривается как
намеренное действие, но, даже если мы переопределим понятие, заменив
намеренное
на ненамеренное, то ситуация не изменится - в большинстве случаев
невозможно
отличить намеренное внутренне действие от ненамеренного.
Переквалификация
внутреннего действия, приводящего к самообману, как сознательного и
бессознательного приводит к тем же результатам, то есть к отсутствию
результатов. Нет возможности дифференцировать самообман человека ото
лжи
другим, да и сам он не всегда в состоянии это сделать. К тому же, мы
оценили
самообман как негативное явление, но и это следует подвергать сомнению,
поскольку существует понятие "обман и самообман во благо". Полагаем,
что эта проблема весьма важна для рефлексии, самоопределения и
реализации
собственного и совместного бытия и к ее решению следует привлечь
специалистов
из разных областей знаний. К тому же самообман и обман следует
рассматривать
совместно, так как, определяя самообман, мы фактически доопределяем
обман и
наоборот. Заодно следует различить ложь, обман, заблуждение,
дезинформацию и
другие виды искажения информации, но для этого надо создавать
конструктивную
практическую теорию информации, поскольку ее пока нет. А пока, похоже,
ждать
помощи неоткуда, да и не от кого. Так что придется в практическом
решении этой
проблемы в повседневном бытии надеяться на себя самих и собственную
интуицию и
повышать определенность совместно с повышением общей определенности
взаимодействий
и средств обеспечения бытия.
В первой главе мы предложили
для рассмотрения контекстную
совокупность понятий:
1)
естина и наваждение,
фантом, мираж;
2)
истина и заблуждение,
иллюзия, галлюцинация;
3)
правда и ложь, обман, полуправда в информации, которая
предоставлена нам другими. (Рисунок 1-1 в томе 2).
В русском языке понятие
"правда" используется как в
определенном в этой контекстной группе узком смысле, так и в широком
смысле,
который мы обозначили на рисунке 7-6 в
томе 2. Мы предполагаем, что возможно под давлением православной
цензуры в
российских текстах термин "правда" начинает замещать термин
"рота". Благодаря чему правда расширяется до такой степени, что
включает
и собственный исходный смысл, и тот, который принадлежал роте. Со
временем эти
смыслы слились настолько, что их уже почти невозможно разделить -
получилось
новое комплексное понятие, которое и описать то трудно. Хотя в принципе
можно
различить две пары основных ракурсов правды по-русски в широком смысле.
Во-первых, правда как синоним роты, то есть космологического закона
правильности. Во-вторых, правда как гармония устроенного по роте
мироздания.
В-третьих, правда как проекция роты в социальные отношения, которая
становится
законом правильности этих отношений. И, в-четвертых, правда как
проекция гармонии
мироздания в социальные отношения. Антагонистом правды является кривда, которая является извращением
роты и
нарушением гармонии, как в мироздании, так и в социальных отношениях.
Соответственно соблюдение справедливости воспринимается как установление соответствия между действительными результатами и
ожидаемыми по
правде, которую субъект признает, с одной стороны, и нарушение
соответствия по
кривде, которую субъект не признает.
В этом смысле религиозные
заповеди
являются отображением космологического закона правильности, как бы он
ни назывался.
Почему же все-таки библейские и евангельские заповеди, которые
проповедовались
в авраамических религиях так и не сработали, несмотря даже на то, что
они
практически всеми и каждым признаются как разумные и даже очевидные?
Некоторые
исследователи полагают, что библейские заповеди слишком абстрактны и
даже во
время получения их Моисеем многие, если не большинство, еврейского
народа не
воспринимали их как непреложные истины. А относительно евангельских
заповедей
Христа они полагают, что некоторые из них не выполняются, потому что не
понятны
и не очевидны для верующих, так как допускают различные толкования, а
другие в
принципе не выполнимы на практике. Например, заповеди в нагорной
проповеди о
прелюбодействии. Полагают, что не было на земле человека, который в
обыденном
бытии смог бы захотеть и практически соблюсти эти заповеди. "Вы
слышали,
что сказано древним: "не прелюбодействуй". А Я говорю вам, что
всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с
ней в
сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и
брось от
себя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все
тело твое
было повержено в геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя,
отсеки ее и
брось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а
не все
тело твое было повержено в геенну". (Евангелие от Матфея 5-27, 28, 29,
30). Взгляд о невыполнимости этих заповедей, похоже, основан на
недоразумении -
исследователи пытаются их трактовать как обыденные повседневные
правила. Хотя
эти заповеди, вероятно, нужно воспринимать не как обыденные правила, а
как
идеальные ориентиры, воспринимаемые как нравственный горизонт. Но в
этом случае
необходимо более тщательно подойти к определению греха и порока.
Однако не сработали и более
приземленные и конкретные славянские
заповеди, которые можно подразделить на три разумные и очевидные
группы: не
навреди предкам, не навреди живущим, не навреди потомкам. Не помогли
даже
суровые наказания вплоть до публичного расчленения преступивших
заповеди во имя
восстановления правильности и справедливости и в назидание другим.
Кстати, по
закону не было вины на том, кто приводил в исполнение кару, которую
преступник
сам навлек на себя. Возможно, что здесь заложена неявная предпосылка,
на
основании которой человек, полагая нечто соответствующим кривде, берет
на себя
смелость восстановить правду и справедливость через формальное по его
мнению
нарушение заповеди и при этом по сути не чувствует за собой вины
грехопадения.
Например, если некий человек уверен, что Имярек заключил брак по кривде
или
осуществляет брак по кривде, то он может посчитать, что Имярек
преступник.
После этого этот человек также может уверить себя, что только
восстановит
правду и справедливость, если возжелает для себя жену Имярек. При этом
он,
конечно же, не будет склонен считать грешником себя самого и не будет
чувствовать за собой вины. Соответственно он может посчитать правым
делом кражу
неправедно нажитого, насилие с благими намерениями, убийство и так
далее.
Насилием, преступлением, грехом
может стать даже проповедь самих
заповедей. Не допустимо внушать человеку обязательность исполнения
заповедей и
требовать их исполнения без их обретения на пути восхождения. Не
допустимо
обличать человека в нарушении заповедей, которые человек не обрел, и
требовать
от него их исполнения. Тем более не допустимо противиться или
противодействовать
обретению принятых только на веру заповедей. То же самое можно сказать
и об
общественных нормах, и о государственных законах, равно как и о любых
других
ограничителях поведения и поступков человека. Более того, это в равной,
а может
быть даже и в большей степени, не допустимо по отношению к высшим
благим
истинам, ценностям и целям.
Для христианина, вступившего на
путь восхождения, идеальный образ
Христа находится на лестнице восхождения между текущим состоянием
человека и
абсолютным образом Всевышнего. В этом смысле образ Христа является
зримым
образом, к подобию которому верующий должен стремиться. Не случайно же
образ
Христа является одновременно и образом пути к нему. По Евангелию от
Иоанна (14,
6 и 10, 9) "Иисус сказал: " Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
приходит
к Отцу, как только через Меня. Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот и
спасется". Кроме того, в контексте восхождения необходимо также
рассматривать и наставление Христа из Евангелия от Иоанна 15, 4-6:
"Пребудьте во мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама
собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есмь
лоза, а
вы ветви; кто пребывает во мне, и Я в нем, тот приносит много плода,
ибо без
меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во Мне, низвергнется вон,
как
ветвь, и засохнет". В этом контексте образ Христа есть одновременно и
нравственный, и исторический источник, и лоза, и нравственный
родоначальник на
пути восхождения, познания и реализации бытия для христианина. Образцом
отношений
между старшими и младшими восходящими и нисходящими партнерами является
образ,
который Христос описал своим ученикам в наставлении: "А вы не
называйтесь
учителями, потому что один у вас Учитель - Христос, все же вы братья. И
Отцом
себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на
небесах. И
не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник - Христос".
(Евангелие от Матфея, 23 - 8, 9, 10). Наставления Христа объединяют в
целое
высшие бытийные образы и идеалы, путь к ним, начало и источник сил для
прохождения пути, а также способ совместного братского прохождения пути.
Приобщающийся к религии или
знакомящийся с ней человек, не
вдаваясь в тонкости богословия, тем не менее должен осмыслить для себя
бытийно
необходимые ему понятия и утверждения религии. Иначе вероучение не
станет
средством восхождения и обретения смысла бытия. Внушение человеку
мысли, что он
должен принять догматы вероучения и утверждения богословов только на
веру без
пути их обретения, проживания и переживания, следует квалифицировать
как
недопустимое давление и в некоторой степени насилие и преступление.
Например,
человек должен сам или совместно со
старшим партнером по восхождению осмыслить для себя следующие
утверждения
христианских священнослужителей: "Бог стал человеком, чтобы человек
стал
богом. Христос - совершенный Бог и совершенный Человек". Приобщающийся
к
христианской религии человек для того, чтобы обрести христианское
вероучение
как практическое средство обеспечения достойного бытия, не должен
чураться
осмысления, например, следующих вопросов. Восприятие Христа не в
качестве
совершенного идеального Богоподобного Человека, а в качестве Бога, не
удаляет
ли Христа от человека? И не снижает ли к тому же Образ Бога? Мог ли
Христос
пасть в результате искушения в пустыне лукавым? И о чем свидетельствует
то, что
Христос не пал? Каждый верующий должен пройти свой путь к Христу.
Полагаем, что неаккуратная
проповедническая и обличительная
деятельность некоторых служителей церквей, в процессе которой они
вольно или не
вольно с благими намерениями пытаются передать верующим высокие
духовные и
нравственные истины и догматы религии, внушая их без прохождения пути
восхождения, не может быть квалифицирована как благая. Результаты
взятые без
прохождения пути восхождения к подобию идеальному Образу Христа и
абсолютному
Образу Всевышнего могут быть причиной беспутья падения. Именно поэтому
попытки
через внушение и обличение навязать результат без пути следует
квалифицировать
как неконструктивное давление и даже как разновидность насилия.
Возможно, что
одной из причин неисполнения заповедей является интуитивное
сопротивление этому
давлению.
Причем, склонность подменять
путь обретения наставлениями,
поучениями, назиданиями, порицаниями и обличениями свойственна не
только не в
меру ретивым представителям церквей, но в не меньшей, а может даже быть
и в
большей степени, она свойственна также и светским публичным,
политическим и
государственным деятелям. Например, бездумное невразумительное
определение и
декларирование прав и свобод для абстрактного человека и человечества
вообще
является давлением на человека, навязыванием ему результата без
прохождения
пути. Следовательно, несмотря на благие гуманистические помыслы, такое
давление
также следует квалифицировать как преступную деятельность. В
юриспруденции,
праве, законодательстве и в деятельности правоохранительных органов
даже
узаконена безответственность за преступную подмену пути обретения на
кулуарное
создание законов и невнятное их предъявление гражданам. Мало того, что
граждане
отлучены от процесса создания законов, мало того, что законы
невразумительно
изложены, мало даже того, что граждане практически лишены возможности с
ними
ознакомиться, так еще вдобавок законодательно узаконили закон о том,
что
"незнание законов не освобождает от ответственности за их
неисполнение". На практике эта формула подменена еще более аморальным
утверждением: "Незнание о существовании закона не освобождает от
ответственности за его неисполнение".
Порочная ситуация усугубляется
тем, что сами законодатели зачастую
не понимают суть законодательства и не обрели те законы, которые они
сами же
сконструировали и приняли. Служители, которые должны способствовать
исполнению
законов, либо не знают о них, либо не обрели их, либо трактуют и
интерпретируют
их в выгодном только для них извращенном виде. Пути обретения законов
не
обеспечены ни в обыденной практической деятельности, ни в системе
воспитания,
образования и обучения на всех уровнях, включая профессиональные. К
тому же не
обеспечены выявление, формулирование, обретение и реализация самой
сути, технологии
и процессов обретения. Идет глобальное отчуждение человека от законов,
а
законов от человека. Нарушаются одновременно космологический закон
правильности, человеческая правда и социальная справедливость. Не
удивительно,
что даже в принципе законопослушные граждане не только не исполняют, но
даже
склонны принимать за "доблесть" действия в обход чуждых и
несправедливых
законов и "грамотный" обман чуждых и несправедливых служителей
законов. И это при том, что в каждом человеке жива его прирожденная
глубинная
вера в правду и справедливость, в правильные законы и правильных
служителей
законов. Человек не может не верить в существование Закона
правильности, Правды
и Справедливости. А "добрый барин" здесь вообще не причем.
Некоторые деятели, неаккуратно
интерпретируя эту ситуацию, делают
ошибочный вывод, что в одних людях есть вера, а в других она
отсутствует или даже
в ком-то есть безверие. Полагаем, что вера есть в каждом человеке, а
речь может
идти только о сопоставлении прирожденной веры и не благим образом
приобретенном
недоверии. Некоторые деятели, отождествляя веру и доверие, требуют от
человека,
чтобы он отождествлял Закон правильности, Правду и Справедливость с
утверждениями легитимных официальных религиозных и светских
законодательных и
исполнительных институтов. Более того, бывает, что даже требуют
отождествления
этих институтов с Законом правильности, с Правдой и со Справедливостью,
которые
они якобы олицетворяют. Хуже всего, когда утверждают примат,
верховенство и
власть безликого "закона из машины" над человеком. Полагаем, что все
эти утверждения порочны и преступны.
Некоторые деятели, не вникнув в
суть веры и обретения,
противопоставляют естественное приятие на веру и осмысленное обретение.
Полагаем, что такое противопоставление является кривдой, а навязывание
его
людям порочно и преступно. Вера и обретение взаимно дополняют,
обуславливают и
обеспечивают друг друга. Если человек отказывается признать, принять и
использовать в качестве средства обеспечения бытия высший дар свою
прирожденную
веру, то тем самым он отказывается быть полноценным субъектом бытия и
обрекает
себя на бездарность. Если человек не в состоянии что-либо принимать на
веру, то
это его собственное проклятие. Если человек не готов и не склонен
принимать на
веру, а, приняв что-либо на веру, не пытается обрести это, пересоздав
его как
собственное средство обеспечения бытия на пути восхождения, то это его
недостаток и проступок, прежде всего перед самим собой. Если человек,
приняв
что-либо на веру, противится обретению этого, то это порок и грех. Если
кто-либо пытается навязать человеку истину без пути прохождения к
обретению
этой истины, то это тяжкий порок и грех. Если же кто-либо пытается
навязать
человеку не-истину, либо препятствует прохождению человеком пути к
обретению
истины то это зло.
Вера в неразделимой
единокупности с надеждой и любовью не только
обеспечивает способность и возможность человека быть Богоподобным
Человеком, но
также обеспечивает необходимую для этого самость и индивидуальность
человека.
Мы не согласны с расхожим утверждением, что "тот, кто первый сказал
"это мое" был первым грешником". Полагаем, что это утверждение
является прелестью. В действительности грешником является тот, кто
сказал, что
у человека нет ничего своего собственного. И тяжкий грех совершают те,
кто
повторяет оба эти утверждения. Говоря "это мое", человек делает
первый шаг к присвоению этого. Если человек не остановится на первом
шаге и,
сказав "это мое", не воссоздаст и не обретет его в качестве средства
обеспечения индивидуального и совместного восхождения и праведного
бытия, то он
совершит грех. Без обретенного своего собственного и особенного человек
не
дееспособен и не самостоятелен, бесправен и безответственен. Когда
человек
праведно и правильно, достойно и справедливо управляет своим
собственным
особенным как средством восхождения и бытия, то это является
добродетелью.
Когда же извращаемый страстью человек попадает в подчинение "мое", не
обретя его, то это уже порок, реализация которого является грехом.
Выбирая и
присваивая, признавая выбор и присвоение других и получая признание
других
каждый человек и каждый консубъект сами и совместно в процессе
восхождения
выбирают и обретают, определяют и реализуют свою самость, миссию,
судьбу. А,
определив и обретя, они должны сохранять верность себе, своему уделу,
судьбе,
миссии. Тем самым они реализуют праведное бытие. Грехом является отказ
от их
присвоения, обретения и реализации.
В контексте данной главы
особенно актуальны вопросы: В чем
проявляется самость, особость и инаковость русичей и Руси, россиян и
России? В
чем особость ситуации и проблем самоопределения и реализации
собственного и
совместного бытия русичей и россиян? Как это сказывается на судьбе
русичей и Руси,
россиян и России? Однако прежде, чем мы попытаемся рассмотреть
возможные
варианты ответов на них, необходимо рассмотреть понятия "самость,
самостоятельность,
особость и инаковость", которые довольно часто даже в словарных
определениях трактуют как синонимы или определяют друг через друга. Самость определяется как
подлинное, одноличное (не двуличное),
истое, самостоятельное и стойкое самобытие. При этом самостоятельность,
входящую в
объем определения самости, трактуют как готовность, способность и
возможность
действовать и поступать по собственной инициативе, решительно, без
посторонней
помощи, реализовать бытие самим собою или от себя, не завися от других,
но, не
отказываясь при этом от ответственности за последствия. Самобытие трактуется как "собственное
бытие", что несколько
отличает его от самобытности, которая определена нами как
своеобразие,
непохожесть на других, готовность, способность и возможность, идти в
реализации
своего бытия своими путями. В этом случае самобытность почти смыкается
с
особостью. В тоже время в отличие от нашего определения в словаре
Ожегова в
объем понятия "самобытность" вводится еще и "самостоятельность в
своем развитии", что сближает самобытность и самостоятельность.
Получается, что по той или иной цепочке определений действительно
возможно
сближение смысла самости, самостоятельности и особости. Однако
внутренний голос
подсказывает нам, что должно быть между ними какое-то различие.
Особость следует рассматривать
в составе следующей контекстной
группы. Особенность -
характерное имманентное свойство предмета, присущее только или в
основном ему и
придающее предмету своеобразие; оно же и отличительное свойство,
которое определяет
особость предмета. Особенное -
не обыкновенный, не такой как все. Но при этом особенное следует
отличать от обособленного как
отдельного, отделенного, отграниченного. Если термин "особость" определить как наличие у
предмета одной
ли нескольких особенностей, то возникает тенденция сближения смыслов
особости и
инаковости. В этом случае есть риск того, что они могут стать
синонимами. Мы
предпочитаем использовать более общий вариант трактовки инаковости -
как просто не идентичность одного предмета другому, одного субъекта
другому.
Если учесть, что идентичных людей не бывает, так как каждый человек
хоть
чем-нибудь отличается от других, предлагаем удовлетвориться
утверждением, что
каждый человек инаков по отношению к другим, и эта его инаковость
определяется
его особостью. Здравый смысл подсказывает, что, возможно, что термины
"особа", "особь" и "особость" производны от
совокупности смыслов особенности и обособленности. Предлагаем термин "особое" определить как характерное
свойство
особы, определяющее ее особенность. В этом случае особость можно
определить как совокупность характерных
свойств особы, определяющая особенность, своеобразие, отличие одной
особы от других.
(Таблица 8-2 в томе 2). При таком
определении сблизились смыслы особости и индивидуальности. Возможно,
что так и
должно быть. Предлагаем в пределах наших размышлений использовать это
сходство
для обозначения совокупности характеристик соответственно особы и
индивида. В
этом случае индивидуальность можно определить как
совокупность характерных отличительных
свойств и качеств индивида, которая отображает своеобразие и
индивидуальную
особенную сущность отдельного индивида. Для применения понятия
"особость" к предмету вообще можно предложить следующее общее
определение. Особость - совокупность
характерных отличительных свойств обособленного предмета, которая
отображает
его своеобразие и особенную суть. Предполагаем, что внутреннее ощущение
контекстного смысла и различия этих слов более адекватно контексту
наших
размышлений. Надо бы, конечно, над этими понятиями поразмышлять в более
широком
составе специалистов.
Довольно часто ошибочно
отождествляют между собой еще одну пару
понятий - суверенитет и независимость. Полагаем, что это
недоразумение основано
либо на прелестнословном жонглировании терминами, либо на
малограмотности.
Первое является средством преступного манипулирования, а второе бедой
тех, кем
манипулируют. К борьбе за независимость и суверенитет чаще всего
призывают те,
кто пытается захватить какую-либо власть. А откликаются на эти призывы
либо те,
кто наживается на любой борьбе, либо те, кому нравится борьба и
насилие, либо
просто одураченные люди, которые не удовлетворены условиями своего
существования
и не знают, как их можно улучшить. В действительности все зависят от
всех. Если
субъект ни от кого не зависит и от него никто не зависит, то это
значит, что он
вообще не участвует в бытии - он собственно вообще не существует. В
действительности, когда конструктивно говорится о независимости,
то он имеется
ввиду
отсутствие подневольной зависимости. Мы предположили, что нужда в
зависимости и
независимости одновременно входят в прирожденный инстинкт осуществления
прав и
свобод. В человеке живет с одной стороны прирожденная, исходная и
неуничтожимая
необходимость и постоянная нужда в том, чтобы быть свободным от
подневольной зависимости, но с другой стороны одновременно и необходимость зависеть
от того, кому он верит, на кого надеется, кого любит. При этом человеку
одновременно необходимо, чтобы от него зависел кто-то, с кем у него
есть
обоюдная доверие, надежда и любовь. В то время как суверенитет означает право и возможность
свободно располагать собой, вступать
в самостоятельные отношения с другими субъектами, руководствуясь
собственной
точкой зрения и собственными духовными, душевными, интеллектуальными и
психофизиологическими нуждами, а также собственными ориентирами.
Так в чем же особость ситуации
и проблем самоопределения и
реализации собственного и совместного бытия русичей и россиян? В чем
проявляется самость, особость и инаковость русичей и Руси, россиян и
России? И
как это сказывается на судьбе русичей и Руси, россиян и России?
Некоторые
исследователи полагают, что на текущем историческом переходном этапе
наблюдаются кризис самости, кризис особости и инаковости, кризис
статуса,
кризис самоидентификации россиян и России, а также некоторой части
русичей и
Руси.
Только разные исследователи
по-разному рассматривают эти кризисы. Одни относят их к нормативным
процессам,
которые естественны на переходных этапах и необходимы для нормального
становления и развития. Другие утверждают, что это патологические
кризисы, из
которых россияне и Россия уже не смогут выйти как полноценные субъекты
бытия. А
третьи облыжно заявляют, что это даже и не кризисы, а патологические
состояния
россиян и России, которые следуют из их порочной природы. Бог им судья.
Мы же
предлагаем рассмотреть эти явления более внимательно.
Если расшифровать по Далю
понятие "истое" как истинное, точное,
подлинное,
настоящее, то самое, сущее; верное; прямое, подлинное, искреннее и
непритворное,
то оно практически становится почти синонимом понятия "правдивое" в
широком смысле правды. (Рисунок 7-6 в
томе 2). Не лишне вспомнить и слово "истота" - естество, сущность, самая
суть,
существо предмета. Тогда самость можно определить как
стойкое
самобытие по правильности, правде и справедливости, по естеству и самой
сути,
подкрепленное готовностью и способностью принимать решения и нести за
них
ответственность, не кривя при этом душой. Или другими словами самость - это готовность и способность
жить по роте в гармонии с мирозданием, стойко отвечая за последствия.
Если верить
одиозным утверждениям модных аналитиков, публичных деятелей и средств
массовой
информации, то может создаться поверхностное впечатление, что россияне
и Россия
потеряли свою самость. Что они утратили свою стойкость, живут не по
правде, а
по кривде, боятся принимать ответственные решения, поскольку не хотят
нести
ответственность за последствия своих решений, поступков и деяний.
Прелестнословы же пытаются убедить россиян, Россию и весь мир, что эти
утверждения
являются истинными. Более того, несколько перефразируя высказывание
князя
Курбского из его переписки с Иваном Грозным, можно сказать, что "ересь
в московской
земле носится между некоторыми безумными, блядословят бо": для россиян
и
России настали темные смутные времена, из которых им не возродиться и
не
восстать. Так ли это?
Ранее мы предположили, что
стремление к самости является одним из базовых
инстинктов. То есть с одной
стороны это прирожденная, исходная и неуничтожимая необходимость и
постоянную
нужду человека в собственной индивидуальности, цельности и
суверенности (то есть в некотором смысле в
обособленности). А с другой стороны одновременно
это необходимость и нужда в объединении и совместной деятельности, плюс
способность и готовность признать за другими право на осуществление
того же. Россиян
и Россию пытаются убедить в том, что они потеряли не только свою
самость, но и
само стремление к ней, что у них пропала необходимость и нужда в
собственной
индивидуальности, цельности и суверенности. Конечно же среди тех, кто
говорит
эдакое, есть просто заблуждающиеся недальновидные люди, которые
искренне
переживают за судьбы россиян и России, но за поверхностной грязной
пеной и
обманчивой марой не видят сути происходящего. Однако чаще подобные
утверждения
делают "злейшие друзья" и лукавые прелестнословы, краснобаи ради
красного словца, а глупцы повторяют за ними, потому что это стало
модным.
Так что же нет у россиян и
России недостатков, проблем и
различного рода кризисов? Все хорошо и прекрасно, все хороши и
добропорядочны?
Мы этого не говорили. Мы отдаем себе отчет в том, что хотя сейчас и не
темные
смутные времена, но, конечно же, и не полное благоденствие. Череда
переворотов
и насилия над россиянами и Россией, которые прокатились по ним в ХХ
веке, не
могут пройти бесследно. В религиях и идеологии полная неразбериха.
Мировоззрение
и парадигма разрушены. От извращенных ориентиров отказались, но новые
еще не
выстроили и не обрели как цельную систему. Всплыла мутная пена и
собралась
вокруг унаследованных от КПСС остатков партийных деятелей,
коррумпированных
чиновников, развращенных подачками публичных деятелей и псевдо
интеллигентов.
Над всеми нависла агрессивная волна вненационального криминала,
извращенного
рынка, криминального предпринимательства, недобросовестного
"партнерства", лукавого демагогического демократизма и гуманизма.
"Чернуха" и прелестнословие захлестнули СМИ, литературу, публичную и
даже государственную деятельность. "Интеллигенция" частично впала в
маразм, частично пошла в услужение прелестнословам, частично ударилась
в
экзистенционализм, а остальные либо не хотят мараться, участвуя в
шабашах, либо
не могут пробиться к информационным каналам, либо изуверились в
возможности
повлиять на ход событий. Нормальные люди просто растерялись и уже не
могут
понять, на что ориентироваться, кому и чему доверять и на что
надеяться.
Конечно же, в такой ситуации наблюдается падение нравов, но не в такой
же
степени, как это хотят представить прелестнословы. Большинство людей, несмотря ни на что, сохранили в себе
не только глубинную и врожденную веру, надежду и любовь, но также и
глубинное и
врожденное чувство Закона правильности, Правды и Справедливости, равно
как и
глубинное и врожденное стремление к ним.
Ну а кризисы все-таки есть или
нет? Конечно же, какие-то кризисы у
кого-то есть. С точностью до того, какие процессы и состояния считать
кризисными. Например, рассмотрим кризисы самости, индивидуальности,
цельности и
суверенности, особости, инаковости и обособленности. В этом контексте
россиян
очень условно и очень упрощенно можно подразделить на пять групп: обычные россияне, живущие обыденной
жизнью; беглецы в иллюзорный или
отгороженный мир; а также растерявшиеся;
преступники; прелестнословы. Можно
сказать, что обычные россияне реализуют свое
бытие и свою самость в естественном для человека мире, беглецы живут в
неестественном мире, растерявшиеся обитают в никаком мире, преступники
существуют в противоестественном мире, а прелестнословы в извращенном
мире.
Полагаем, что ни у первых двух групп, ни у последних двух групп россиян
уже или
еще нет кризиса самости. Можно предположить наличие кризиса самости и
самоидентификации разной степени тяжести у людей, входящих в среднюю
группу
беглецов. Обычные россияне уже избавились или просто не приобрели
синдром
овеществленного существования. Они либо уже прожили свой нормативный
кризис
самости переходного периода, либо всегда были и остаются сейчас в истой
природной самости. Беглецы либо живут с прошлой самостью, не замечая,
что
ситуация изменилась необратимо, либо уходят в какой-либо искусственный
отгороженный мир, в котором живут с самостью, естественной для этого
мира.
Преступники и прелестнословы создают свои противоестественные и
извращенные
миры, со своим пониманием законов правильности, правды и
справедливости, со
своим пониманием самости, ответственности, индивидуальности, особости,
цельности и суверенности.
Полагаем, что только обычные
россияне в принципе в той или иной
степени могут реализовать свою самость в естественном смысле этого
понятия, то
есть как стойкое самобытие по отображенному в глубине сердца
вселенскому закону
правильности, по истой правде и справедливости, подкрепляя
индивидуальное и
совместное самобытие готовностью и способностью принимать решения и
нести за
них ответственность, не кривя при этом душой. Соответственно только у
обычных
россиян могут быть реализованы естественные свойства ответственности,
индивидуальности, особости, цельности и суверенности, без экстремальных
отклонений в ту или иную сторону. Собственно это люди, у которых есть
врожденный ли благоприобретенный иммунитет от подчиненности страстям.
Именно из
среды этих людей появляются герои, праведники и святые, которые
свершают свои
бытийные подвиги также естественно, как дышат, без страстного надрыва,
экстремистских "измов" и показухи. Истые герои чужды героизма и не
совместимы с ним. Полагаем, что люди из четырех других обозначенных
нами
условных групп могут изображать из себя героев, праведников и святых,
могут
даже внешне выглядеть так, но по своей сути они таковым не являются.
Даже
совершая по форме героические, праведные или святые поступки и деяния,
они, по
сути, не свободны, и либо находятся под гипнозом фанатического
понимания долга
и служения, либо движимы какой-либо подчинившей их страстью, либо
расчетливо
следуют к какой-то индивидуальной узкой своекорыстной цели.
Был ли Христос героем,
праведником и святым? Был ли Христос из
среды обычных людей? Если Христос был человеком, то он непременно вышел
из
среды обычных людей. Если Христос был человеком, то Он, пройдя через
искушение
и инициацию восходящего, совершал свое праведное индивидуальное и
совместное с
учениками и другими людьми бытие как истинное восхождение к Образу и
Подобию.
Если Христос был человеком, то Он, совершил свой путь восхождения
совместно со
снизошедшим до него Богом и принял соответствующее посвящение
осмысленно,
осознав при этом свою миссию, долг и служение. Прозревая свое распятие
на
кресте, Христос шел к Голгофе не бездумно, не без сомнений, не без
страха. Если
Христос был человеком, который без давления, принуждения и насилия, без
подчинения страстям или кому-либо, без стремления к своекорыстным целям
прошел
свой путь восхождения, реализовал свое праведное бытие, свершал святые
деяния,
героически взошел на крест и принял мучительную смерть, то Он,
несомненно,
истый герой, праведник и святой. Если же Христос был Богом, то
полагаем, что
заданные вопросы не имеют смысла и, возможно, на них не нужно отвечать.
Однако
во всем этом контексте следует более внимательно, конструктивно и
ответственно
осмыслить понятие "жертва".
Полагаем, что на переходном
этапе от большевизированного существования
к естественному бытию именно обычные люди если и не реализуют в полноте
смысла
праведное и святое бытие, то уж точно проявляют себя как обыденные
герои уже
тем, что становятся и сохраняют себя в качестве обычных людей, опираясь
на свое
глубинное и врожденное чувство Закона правильности, Правды и
Справедливости,
равно как и на глубинное и врожденное стремление к ним. Обычные люди
это те,
кто реализует свое бытие на основании обычаев, идущих из глубины
сердца. Именно
обычные люди естественно и подлинно своеобычны,
своеобразны и самобытны. Они естественно реализуют
свои
естественные свойства самости, индивидуальности, цельности и
суверенности, особости,
инаковости и обособленности без давления, подчинения, экстремизма и
надрыва.
При этом если и случаются кризисы, то они не патологические, а
нормативно
конструктивные, способствующие естественному восхождению, развитию,
совершенствованию и росту. Быть обычным человеком не означает быть
"серым", невнятным и безвольным, не означает быть без собственной
индивидуальности, цельности и суверенности, особости, инаковости и
обособленности, не означает быть как перекати поле без корней - куда
ветер
подует, туда и катится. Людей с такими негативными свойствами можно
увидеть
только среди беглецов, растерявшихся, преступников и прелестнословов.
Предлагаем уделить еще немного
времени размышлениям об
обособленности субъектов. Обособленность это оформленность четкими
гранями по
всем личностным психофизиологическим структурным внешним связям, то
есть это
отграниченность, обрамленность границами, в которых происходят
взаимодействия.
Типология устанавливаемых субъектами границ, может быть весьма полезна
для
описания их характеристик и поведения. Ввиду отсутствия концепции,
методологии
и языка описания и использования границ в процессе выявления,
формулирования и
решения актуальных проблем ограничимся пока предварительными вопросами.
Границы, какой степени проницаемости предпочитают устанавливать
россияне и Россия
в различных взаимодействиях с другими - прозрачные, соединяющие,
ограничительные, отгораживающие, изолирующие? А какие границы
устанавливают
другие в различных взаимодействиях с россиянами и Россией? Как
реагируют
россияне и Россия на устанавливаемые другими границы. Можно
предположить, что
характеристики по этим свойствам обычных россиян будут существенно
отличаться
от характеристик людей из обозначенных нами условных групп. Пока
описание этих
характеристик относится более к проблемам, чем к задачам, но после
уточнения
словаря проблемы при подходящем случае мы еще попытаемся вернуться к их
рассмотрению.
В частности при уточнении
словаря проблемы необходимо хотя бы
попытаться дать правдоподобные ответы на ряд вопросов. Например. Может
ли быть
кризис врожденных инстинктов, если они получены человеком в дар? В чем
заключается суть дара? Каково контекстное окружение понятия "дар"?
Предлагаем рассмотреть последовательность понятий Дар -
Одаренность -
Задатки -
Способности -
Могущество. Исходной концептуальной
позицией
является предположение, что каждому субъекту предлагается Дар.
Субъект может увидеть или не увидеть, принять или не принять,
использовать на пользу или во вред себе и другим этот Дар. В любом
случае выбор
остается за ним, потому что Дар с одной стороны открывает дорогу к
возможностям
и могуществу, но с другой стороны он налагает на субъекта
ответственность. В
случае принятия Дара он превращается в одаренность
субъекта. Субъект может превратить
одаренность в задатки, если начнет
использовать их. Далее в конкретной практической деятельности задатки
могут
быть развиты самим субъектом во взаимодействии с другими в способности.
Желание использовать свои способности в качестве
средств производства полезностей для удовлетворения собственных и чужих
нужд и
непосредственное их применение в конкретных видах деятельности
превращает
способности в могущество.
Подарок -
1) Отданное навсегда добровольно безвозмездно (даром, бесплатно), но по
обычаю
отдариваемое. Дар -
1) отданное навсегда добровольно безвозмездно и без отдаривания 2)
добровольно
предоставленная возможность для безвозмездного неотдариваемого
использования
чего-либо; 3) добровольно предоставленная от рождения свыше, (Природой,
Всевышним, Космосом) возможность безвозмездно и без отдаривания по собственной воле воспользоваться благодатью,
способствующей появлению у личности одаренности:
способностей,
дарований, гениальности, таланта.
Одаренность -
предпосылка для
выращивания субъектом своих задатков, способностей
и могущества. Задатки -
потенциальные
способности. Способности -
духовные,
душевные интеллектуальные и физические свойства субъекта, предпосылки,
механизмы и условия, которые определяют успешность овладения
определенными
средствами обеспечения бытия, также обеспечивают возможность,
способность и
готовность осуществления определенных видов деятельности. Способности
субъекта -
это совокупность его внутренних средств необходимых и достаточных для
реализации своих прав и предоставленных ему возможностей. Могущество -
желание,
готовность, способность и возможность субъекта
удовлетворять свои и чужие нужды.
Таким образом, можно
констатировать, что
способности и могущество определяются свойствами Дара, собственным
выбором
субъекта и конкретной практической деятельностью субъекта для пользы и
выгоды
себе и другим. Уровень способностей и могущества определяется степенью
овладения субъектом объектами и средствами воздействия, с которыми он
имеет
дело в своей практической деятельности. Кстати, дар может быть
неисчерпаемым
средством и богатством, но может стать и проклятием, тяжкой ношей. Дар
тем
больше усиливается (то есть увеличивается, расширяется на разные сферы
приложения, растет за счет добавления новых составляющих, развивается
за счет
добавления новых качественных граней, прогрессирует за счет
совершенствования
применения), чем больше его эксплуатируют с пользой для себя и других.
Если же
субъекту кажется, что он исчерпал дар, то это может быть следствием
разных
вариантов действительности:
1)
владелец
по каким-то причинам или с самого начала не поверил - бывает и такое,
или не
принял его, или со временем отказался от дара;
2)
владелец
берег дар, не использовал его в практических делах либо по лености,
либо из
боязни того, что другие могут воспользоваться результатами его дара -
от этого
дар зачах;
3)
владелец
дара оказался слишком конформен и уязвим и не сумел защитить дар и себя
от
завистливых нападок;
4)
дар
был использован не во благо или в своекорыстных целях в ущерб другим;
5)
владелец
зациклился на каком-то одном приложении и исчерпал в нем парадоксы,
противоречия и проблемы своего уровня или их решения были
несвоевременны, а
результаты пока не доступны потенциальным пользователям - надо смотреть
шире и
периодически обновлять точки приложения дара и/или партнеров и
пользователей.
Впрочем, все сказанное
применимо к любому ресурсу и средству
производства безопасной жизни, а не только к дару гения. Правда у дара
есть
особенное свойство - чем он больше, тем тяжелее. Но, если дар
использовался
достаточно широко, бескорыстно и во благо себе и другим, то у владельца
не
могло не хватить сил нести эту ношу - сам дар является внутренним
источником
сил и энергии. Одним из естественных средств
реализации дара в
процессах возрождения, становления и развития россиян русичей и их бытия, где бы они ни находились,
является непрерывное гармоничное возрождение, становление и развитие
русского
языка и национальных языков российского многонационального народа.
Другим
могущественным средством является сомнение в уничижающей черной хуле и
в
соблазнительной лестной прелести, в своей завершенности или в
непогрешимости.
Дара напрочь отсутствующего, скажем, у американцев. Не надо верить, что
россияне и Россия находятся в состоянии полной духовной, душевной и
интеллектуальной ничтожности, но также и не надо прельщаться очередными
соблазнами облагодетельствовать все человечество, либо Европу, либо
Азию, либо
Запад, либо Восток. Неправда, что россияне и Россия настолько впали в
крайнюю
духовно душевно интеллектуальную нужду, что лишились духовного,
душевного и
интеллектуального богатства. Просто его надо отчистить от всяческой
налипшей на
него посторонней грязи и превратить в капитал, который инвестировать в
реализацию своей миссии. Просто надо перестать слушать доморощенных и
пришлых
прорицателей и кликуш, о крушении и падении в пропасть, о принесение в
жертву
лучших, о покаянном очищении народа и так далее. Выбор нужно сделать
каждому
россиянину и наделить свой народ как собственное дитя средствами
обеспечения
бытия. Надо выйти из состояния растерянности, найти свою естественную
миссию и
реализовать ее здесь и сейчас в партнерском честном согласии с другими
самоопределившимися людьми, нациями и народами. А материальное
благополучие
придет как естественный сопутствующий результат.
Конечно же, рассмотренные нами
опрощенные абстрактные
характеристики могут быть применены только для обсуждения тенденций
изменения
абстрактных россиян вообще, но ни в коей мере не могут быть
использованы для
квалификации и оценки характера конкретных людей. Уверены, что это не
конструктивно
и аморально. При этом в каждом человеке могут сочетаться разные
субличности,
которые проявляются в качестве субъектов бытия в тех или иных сферах
социальных
отношений. У каждой субличности и соответственно у каждого субъекта
могут быть
свои собственные характеристики. Одни характеристика и поведение у
субъекта
гражданина, другие у субъекта профессионала, третьи у семьянина и уж
совсем
десятые у интуриста. К тому же существующая цивилизация способствует
такому
расслоению субличностей и субъектных проявлений человека, что они не
только
могут не походить друг на друга, но даже могут без медицинской
патологии
противоречить друг другу. Хотя это все-таки, возможно, социальная
патология.
Трудно передать действительное состояние россиян и России с помощью
какого-либо
конечного набора утверждений или предположений. И не потому что "умом
Россию не понять, в Россию надо только верить". Можно и надо верить,
можно
и надо понять умом. И не потому что на овеществленном советизированном
русском
языке эта тема вообще не выговаривается. И не потому что даже в живом
русском
языке не хватит слов для описания. Вероятно, потому что всегда
останется нечто
несказанное и неописуемое, то самое нечто, которое возникает в целом
сверх
суммы его частей. Предлагаем попытаться создать интуитивное контекстное
впечатление о менталитете и состоянии россиян и России с помощью не
высказываемой синергии, которая возникает от объединения в целое
совокупности
следующих утверждений, вопросов и возможных ответов на них.
Среди специалистов и не
специалистов бытует некоторый набор
расхожих до банальности мнений. Например. Людей аутентичных, праведных,
обладающих
самостью, идущих по пути самоопределения, сотворения и восхождения, "на
два порядка меньше". Так ли это? Этих людей меньше, но именно они
создают
все наиболее значительное в человеческой культуре. Так ли это? Идти по
пути
сотворения труднее. Так ли это? Идти по праведному пути труднее. Так ли
это?
Делать собственный выбор, принимать решения и нести за них
ответственность
труднее. Так ли это? Праведные, или духовные, или душевные люди менее
успешны в
цивилизованном мире. Так ли это? Те, кто готов добиваться своих
корыстных целей
любым путем более успешны в цивилизованном мире. Однако, даже добившись
всего,
чего хотели, они в итоге своей жизни или существования проигрывают, а
выигрывают в итоге своего бытия праведные. Причем, именно в явленном
мире
проигрывают в итоге своей жизни или существования и выигрывают в итоге
своего
бытия. При этом угрызения совести, разочарования в достигнутых целях и
результатах, смутное чувство неудовлетворенности и ощущение чего-то
упущенного
только частично определяют негативный итог. Так ли это? Не в деньгах
счастье, а
тем более не в их количестве. Так ли это? Соблюдающие требования
сообщества
более предсказуемы, конформны и успешны в стандартных ситуациях, а
сознательно
сомневающиеся и ищущие свои пути более непредсказуемы, креативны и
успешны в
проблемных ситуациях. Зато первые получают в цивилизованном мире больше
благ,
чем вторые. Зато первые существуют, а вторые обретают истинное
подлинное бытие.
Так ли это? Стратегия успеха заключается в том, чтобы не выжидать
покорно, но и
не суетиться, а хорошо представить то, что действительно необходимо. И
тогда
это непременно придет как бы само. Но с другой стороны - на бога
надейся, а сам
не плошай. Не нужно приобретать средства обеспечения бытия и решать
проблемы
впрок. Незачем креститься, если гром еще не грянул. Но с другой стороны
- под
лежачий камень вода не течет. Возможно, что это нечто близкое к
китайскому
недеянию. Хотя в действительности именно так и нужно понимать русский
"авось". Так ли все это? А
если это что-то есть так или не так, то
почему?
Как все это соотносится со
случайностью, судьбой, миссией и
предопределением и насколько человек свободен в выборе поступков,
деяний и пути?
Как все это соотносится со взаимной дополнительностью созидания и
обретения?
Как все это соотносится с глубинным и врожденным чувством Закона
правильности,
Правды и Справедливости, равно как и с глубинным и врожденным
стремлением к
ним? Как все это соотносится с положительными оценками, подтверждениями
и
стимулами правильных поступков либо с негативными оценками,
подтверждениями и
стимулами со стороны близких, значимых и общества? Как все это
соотносится с
востребованностью и эйкономикой обеспечения бытия?
Мы не утверждаем, что каждый
россиянин постоянно и непрерывно
задает себе и другим эти и подобные им вопросы, обсуждает их и отвечает
на них.
Но предполагаем, что в каждом россиянине, в том числе и в тех, кто
временно
соблазнился на прелести овеществленной цивилизации, в глубине души есть
эти и
многие другие вопросы, а также и правильные ответы на них есть.
Предполагаем,
что когда обычный россиянин избавляется от пелен прелестей или
игнорирует их,
то в нем открывается его самость и он находит истые ответы на истые
вопросы,
принимает истые решения и реализует истое бытие с полной идентичностью,
готовностью нести адекватную ответственность и стойко переносить
возможные
невзгоды. Именно это и есть истая суть обычных россиян и непрерывно
возрождаемой ими обычной России в соответствии с подлинно российским
глубинным
и врожденным обычаем чувствовать в глубине своего сердца Закон
правильности,
Правду и Справедливость, равно как и в соответствии с глубинным и
врожденным
обычаем стремиться к ним.
Мы отдаем себе отчет в том, что
не все россияне обычные люди, а
обычная Россия является всего лишь одной из граней России в целом. При
этом на
этапе первичного выявления и формулирования проблем индивидуального и
совместного с другими бытия россиян и России не суть важно, какое
количественное соотношение обычных россиян и маргинальных беглецов,
растерявшихся,
преступников и прелестнословов. Даже не суть важно, какое соотношение
между гранью
"обычная Россия" и другими гранями. Все это станет важно потом, когда
мы будем искать критические количества людей в обычной и маргинальных
группах,
когда мы будем выявлять интегральные образы россиян и России с точки
зрения
самих россиян и России и с точек зрения других людей и других стран и
народов.
Сейчас мы пытаемся хотя бы в общих чертах наметить основные компоненты
описания
проблем, выявить их свойства и структурные связи, скомпоновать эти
свойства в
различные первичные понятия, обозначенные первичными терминами.
Мы отдаем себе отчет в том, что
не только обозначенные здесь, но и
другие еще не введенные в рассмотрение маргинальные группы россиян, а
также другие
грани России, всегда были, есть и будут. Можно предположить, что это
естественное свойство природы человека и человеческих сообществ,
которое
почему-то и зачем-то необходимо для бытия не только человека и
человечества, но
и всего явленного мира, а может быть, и всего мегакосма. Нам сейчас
нужно
ослабить привычные "зажимы" в мышлении, найти дополнительные варианты
рассмотрения ставших привычными предметов, подвергнуть конструктивному
сомнению
привычные догмы действующей нормальной парадигмы и сделать задел,
совокупность
отправных точек и направлений для последующих более конструктивных и
практичных
размышлений и согласований. Без этого невозможно никакое восхождение,
развитие,
совершенствование и рост ни каждого субъекта бытия индивидуально, ни
всех
вместе.
И, тем не менее, мы уже сейчас
можем предположить, что именно
совокупность взаимодействующих в обыденном бытии обычных людей является
ядром,
определяющим текущее и будущее бытие России, а обычная грань России
является
доминантной и наиболее показательной в ее характеристике. Главной
отличительной
особенностью обычных россиян является то, что они инстинктивно не
подчиняются
своим внутренними страстям, инстинктивно без агрессии защищаются от
подчинения
себя со стороны, инстинктивно спасают себя от прелести и зла,
инстинктивно
сохраняют себя в качестве первичных субъектов бытия, не становясь
частями
какого бы то ни было целого. Именно эта особенность обычных россиян
помогла им
не только выжить самим и выстоять перед натиском всех волн агрессивной
экспансии, но также помогла выжить России и даже людям из маргинальных
групп.
Именно эта особенность обычных россиян создает предпосылки, основу
бытия и
делает возможными последовательные без революций и без агрессивной
экспансии
восхождение, развитие, совершенствование и рост и каждого субъекта
бытия
индивидуально, и всех вместе. Именно эта особенность обычных россиян
объясняет,
почему россияне и Россия вопреки всем канонам теории систем не
деградировали до
пещерного уровня и не были стерты с лица Земли после многократного
уничтожения
критического количества россиян и средств обеспечения их бытия, после
подмены,
извращения и даже разрушения российского мировоззрения, идеологии и
языка, после
нарушения естественного процесса передачи и преемственности опыта
поколений.
Именно эта особенность обычных россиян превращает обыденное бытие во
вселенское
и делает возможными такие процессы, как продолжающееся сотворение бытия
и мегабытия,
восстановление вселенской роты и мироздания, возрождение человека и
консубъектов
явленного мира и всего мегакосма.
Именно эта особенность обычных
россиян позволяет нам смотреть с
верой, надеждой и любовью на себя, на россиян, на Россию, на всех
других людей
и на все народы, на человечество и субъектов мегакосма, а также на их
настоящее
и будущее. Главное не поучать других и не заучивать самим, а быть. Но
быть надлежит
не в одиночку, не помышлять горделиво, что вот де мы сами станем на
ноги,
восстановим свое богатство, а там вы к нам придете и мы вас
облагодетельствуем,
спасем, научим как жить. Достаточно Россия и сама отгораживалась и ее
отгораживали. Россиянам и России надо искать пути к совместному бытию
при
гармоничном согласии миссий, поступков и деяний. Надо строить мосты от
сердца к
сердцу между людьми, нациями и народами. И здесь, возможно, именно
русичам и
Руси принадлежит особая миссия, рассмотрение которой мы предлагаем
продолжить в
девятой главе.
Почему и зачем нам
потребовалось создавать модель природы человека
и бытия? Почему и зачем нам потребовалось создавать абстрактные
умозрительные
модели взаимодействия абстрактной славянской религии и абстрактной же
православной религии? Для чего нужно обожествление земных интересов и
приземление высших горних идеалов, а вот почему.
В советском языке перестали
употребляться многие русские слова,
которые использовались еще в начале ХХ века. К потерянным словам можно
отнести
естину, естинное, естество, истость, истое, истное, истота. Сейчас все
эти
слова заменило безликое слово "истина", которое определяется как (1)
то, что существует в действительности, отражает действительность,
правда; (2)
утверждение, суждение, проверенное практикой, опытом; (3) нечто
объективно
существующее.
Мы просто хотим слышать
симфонию русского языка во всей ее
полноте, а не то блеяние и блядословие, которое порой претендует даже
на то
чтобы быть уставами и законами, одами и гимнами. Вот лишь несколько
слов этого
нового еще не совсем забытого языка.
Самый -
истый, истинный, настоящий; тот, о котором речь идет, подлинный;
сущный,
существенный. (В некоторых религиях и во
всех манипуляционных прелестных идеологиях свойства человека, которые
обозначены терминами, образованными с помощью "сам и само…" либо
стараются не употреблять, либо придают им уничижительный оттенок. В
русском
языке нет необходимости уничижать все слова, которые образованы с
помощью
"сам и само…", поскольку словарь содержит достаточно таких
противопоставленных друг другу позитивных и негативных слов.)
Самобытный -
сущий сам собою или от себя, своими силами. Говоря строго, один Бог
самобытен,
но зовут так в человеке самостоятельную личность и свойства его в
противоположность всему подражательному, особенно же творческие
дарования его,
гениальность.
Самость в
живом русском языке означает высокие положительный свойства человека,
но
извращением самости является самотность или
самовщина -
качество, свойство самотного, себялюбие, своекорыстие, забота об одном
себе, с
небрежением к благу других и общему благу; эгоизм. Соответственно самотный - это человек, у которого
самость, личность впереди всего, который
сам себя и свои выгоды ставит выше всего, себялюбивый и корыстный, кому
чужое
благо нипочем; себятник, себялюб, эгоист.
Самить -
воротить в свою пользу, тянуть все себе или на себя. Самиться -
храбриться, хотеть казаться самостоятельным. Самовластие -
неограниченная власть; сила, воля или право распорядка, ничем не
стесняемые. Самовольство, самоволие -
своеволие, как качество, как состояние самовольного, произвол, самосуд,
самоуправство,
всякое действие по необузданной воле своей, наперекор власти, порядку
или
закону. Самовольник -
своевольник, неслух, забияка, нахал. Самодур -
глупый и самоуверенный, затейливый, упрямый человек. Самодурь -
балмочь, бестолочь. Самодурить -
дурить в свою голову, упрямиться, делать по своему и притом глупо. Самозванец -
подыменщик, принявший чужое имя или званье, утаившийся под видом иного
человека, выдающий себя за кого-либо иного. Самолюбие -
самострастие, пристрастие к себе, суетность и тщеславие во всем, что
касается
своей личности; щекотливость и обидчивость, желание первенства, почета,
отличия, преимуществ и превосходства над другими. Самомнение -
слишком высокое мнение о себе человека, киченье, буесть,
самоуверенность,
самодовольствие, гордость сердца. Самонадеянность -
лишнее доверие к силами и способностям своим, к личным качествам своим;
небреженье к чужой опытности, советам и помощи. Самонравный человек,
более или менее упрямый, делающий все
по своему.
Словоблуд - тот, кто не готов, не
способен или не
хочет говорить прямо, ясно и внятно из-за того, что хочет брать и нести
ответственность
за свои утверждения, призывы и концепции.
Прелестнослов - тот, кто поддавшись страсти
не
вдумывается в смысл слов и чей
внутренний взор затуманен привычным словоблудием до такой
степени, что
человек превращается в слепо-глухо-немого.
Мы хотим, чтобы сомнение как
ищущее незнание, стало более
адекватным состоянию веры, надежды и любви, чем любой религиозный,
псевдорелигиозный (включая, антирелигиозный) "изм".
Мы хотим в обычной языковой
практике вернуть обычным людям
ощущение того что они естественно и подлинно своеобычны,
своеобразны и самобытны уже тем что обычны.
Мы не пытаемся маскировать свое
мировоззрение раскачивающим
определенность размышлением. Там где это уместно мы четко высказываем
свои утверждения,
предупреждая читателя, что даже если они ему чем-то приглянулись, то
обрести их
можно только пересоздав самому. Тем более, что на последующих этапах мы
можем
не только сами подвергнуть сомнению свои утверждения, но и
переосмыслить их.
Для нас размышления являются путем индивидуального и совместного
обретения
текущей истины с помощью ищущего незнания и конструктивной
неопределенности.
И поэтому для нас неприемлемо
десиденство как неконструктивная
критика всего и всех, и скептическое сомнение как попытка рассмотрения
с
различных точек зрения проблемы без попытки ее решения с собственным
заинтересованным участием.
Рисунок
7-1
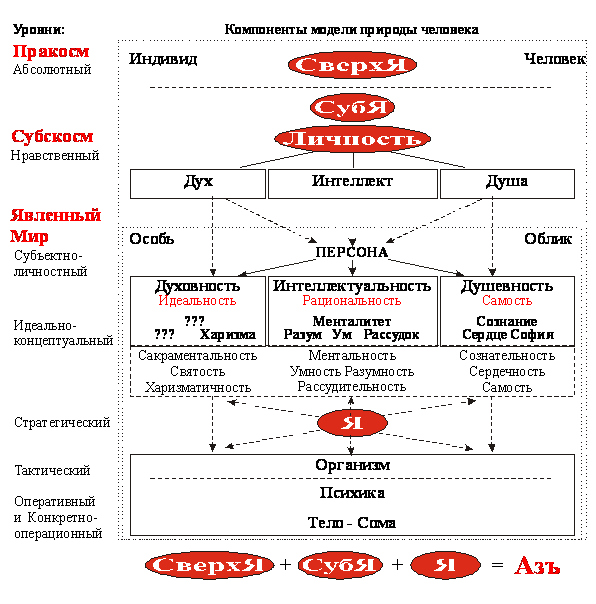
Рисунок
7-2
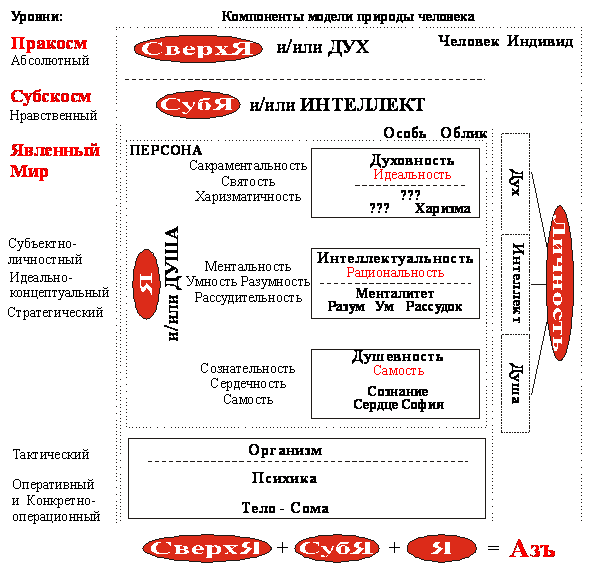
Рисунок
7-3
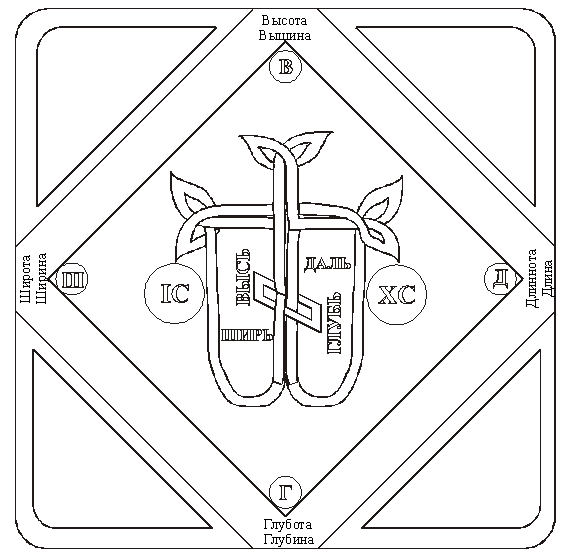
Таблица
7-1
|
Земное
|
|
1:
|
Высота
|
Глубота
|
Широта
|
Длиннота
|
Долгота
|
|
Высокость Высокий
|
Глубокость
Глубокий
|
Широкость
Широкий
|
Длинность
Длинный
|
Долгость
Долгий
|
|
Вершинный
Возвышенный
|
Глубинный
Глубинность
|
Обширный
Обширность
|
Протяженность
Протяженный
|
Продолжительность
Продолжительный
|
|
2:
|
Вышина
|
Глубина
|
Ширина
|
Длина
|
Время Длительность
|
|
Небесный
|
Углубленный
|
Расширенный
|
Удаленный Далекий
|
Длительный
|
|
3:
|
Высь
|
Глубь
|
Ширь
|
Даль
|
Длинь
|
|
Горнее
|
Рисунок
7-4
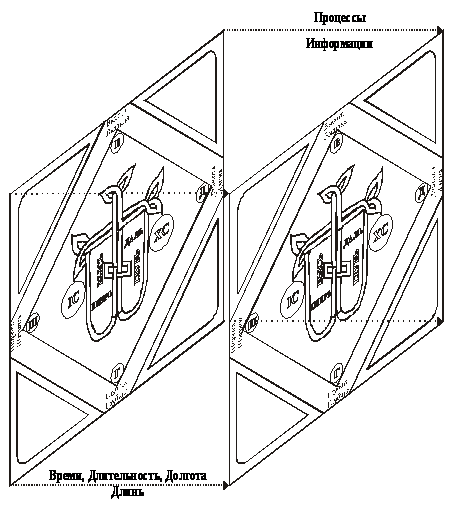
Рисунок
7-5
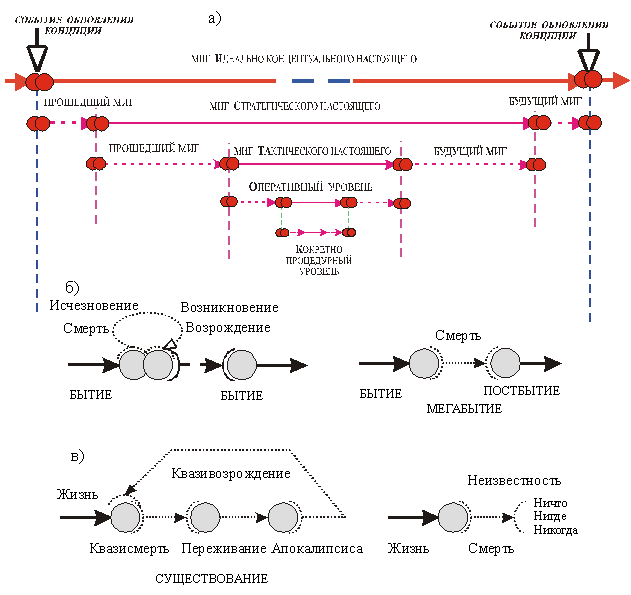
Рисунок
7-6
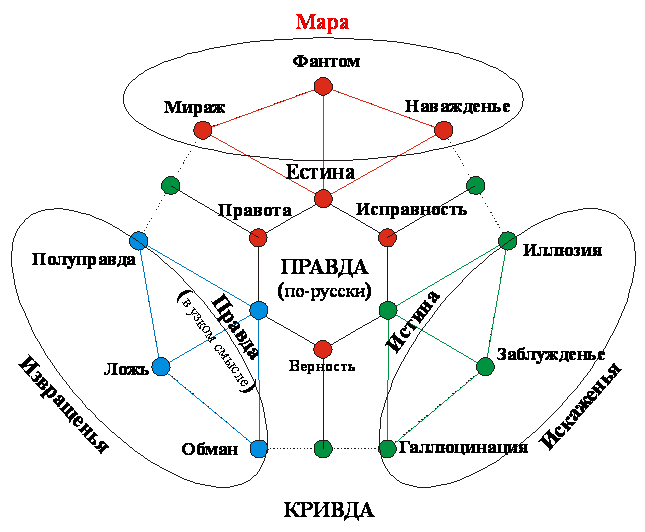
Таблица
7-2
|
Индивид
- Нрав, характер, облик;
Индивидуальность, Самость; Чувства и ощущения
|
Азъ (СверхЯ, СубЯ и Я) - Личность (Дух, Душа и Интеллект)
Нрав, характер, облик; Самость; Чувства и
ощущения
|
|
Особь - Мораль, склад,
обличье, лицо; Особость, Чувства, эмоции и ощущения
|
|
Персона, Субъект - Мораль,
склад, обличье; Персональность, Чувства
|
Организм - Норов,
темперамент, лицо; Эмоции и ощущения
|
|
Духовное
|
Интеллектуальное
|
Душевное
|
Психика
|
Тело
|
|
Добро - зло,
|
Истина - заблужденье
|
Благо - худо
|
Хорошо - плохо
|
Комфорт - дискомфорт
|
|
Харизма, =, =
|
Менталитет, разум, ум, рассудок
|
София, сознание, сердце
|
Функциональные подсистемы
|
Органы
|
|
Идеальность
|
Рациональность
|
Здравый смысл
|
Практичность
|
Оперативность
|
|
Откровение
Открытие
|
Прозрение
Изобретение
|
Озарение
Эмпатия
|
|
|
|
Добродеи,
Добродетели, Добродетель, Добродетельность, Добродеяние, Добродеянья,
Добродеятели, Доброжелательность, Добронравие, Добропорядочность,
Добросердечность, Добросердие, Добросердность, Добросовестность,
|
Вразумительность
Разумность Рассуждение Рассудочность Умение Умелец Умник Умность
Умозаключение Умственность
|
Благодатный,
Благодать, Благодеяние, Благодеянья, Благодушие, Благодушный,
Благожелательность, Благой, Благонадежность, Благонамеренность,
Благонравие, Благообразный, Благополучие, Благопристойность,
Благоразумность, Благость, Благочестие, Блаженство, Блажь
|
|
|